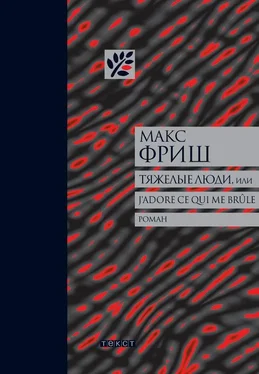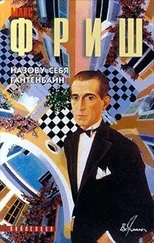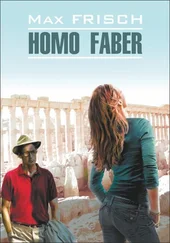— Может быть, он и не был вашим настоящим отцом…
Что она имела в виду?
— Да я и не знаю, — отвечала Ивонна. — Вообще-то я всегда думала, что вы росли без отца, — вы так часто говорите о том, что мог бы дать нам отец!
Распахнув пальто, молча, с лицом, то и дело озаряемым улыбкой, стояла она наконец перед его работами. Почему он показывал только ранние вещи, только то, что уже осталось позади? Ей чудилась в этом трусость или тщеславие… Райнхарт, чтобы не торчать перед собственными произведениями, отправился готовить чай. Настал момент, когда он уже не ждал и не боялся никаких слов. Она расхаживала, словно по саду, и поскольку оба чувствовали, что Ивонна не в состоянии вынести суждение о его работах, само собой разумелось, что и позднее, когда она села, чтобы выпить чаю, она не скажет ничего, а он ничего и не ждал. Им не нужно было маскировать молчание любезностями. Только сердечная радость, постоянно питаемая ошеломляющим чувством близости, заливала лицо Ивонны, глаза ее блестели — и она похвалила его чай.
— Знаете что, Райнхарт, теперь я буду звать вас Юрг. Это чтобы вы знали!
На улице шумели дети.
Ивонна решила, что в мастерской не хватает растений. Подошла бы спармания африканская, это такое растение с высокими стеблями и висячими листьями, с оазисами зеленого света… На единственной кирпичной оштукатуренной стене висела черная маска, из Океании, ее оставил его друг-скульптор, уехавший за границу. Наконец вернулся мальчишка, которого Райнхарт посылал в булочную, дав ему два франка одной монетой. Тортов не было, объявил мальчишка, зато он принес целый мешок всякой кондитерской мелочи! Но в тот момент не существовало ничего, что не могло бы доставить им радость, и они со смехом принялись за сладости, прямо как школьники. Ивонне показалось, что никогда еще в этом мире она не была юной; словно призрак встала у нее за спиной ее бестолково растраченная, безразлично отбытая и выброшенная жизнь. Мгновениями на нее накатывало острое желание: о если бы они никогда не встречались!
Юрг упрекал себя за то, что в ее единственный свободный день не вывел Ивонну на солнце, на воздух.
— Воздух никуда не убежит!
Они продолжали лакомиться сладостями, с которых дождем сыпались крошки. Более объективно, чем его работы, Ивонна могла оценить различные головы и фигуры, брошенные на произвол судьбы его другом, скульптором, покинувшим родину. Это были сплошь девушки из гипса, целыми толпами слонялись они по мастерской, между балками и холстами, погруженные в мысли о своей слепленной из жидкой массы жизни.
— Времени у них достаточно! — заявил Юрг. — Не то что у нас… Поэтому они и не строят оскорбленных гримас, если им выпадает год-другой пялиться в пустой угол! Вообще-то они мне очень нравятся.
Обычно такие вещи можно увидеть среди спокойных и гладких стен выставочного зала, здесь же их окружал сумрак беспорядка, пестрая неразбериха, обнаженные конструкции помещения — скромная имитация космического хаоса, в действительности безграничного. И среди всего этого стоит создание, облеченное формой. Это создание заключено в узкое пространство, которое оно взрывает, волшебно-беззвучно и ничего не делая, силой совершенно иной жизни, восстающей из беспорядочного круговорота вещей внешнего мира, шагающей своим путем… Юрг освободил от холстин одну из фигур побольше, стоящую девушку с замкнутыми в круг руками и головой, опущенной в трансе, словно надломленный бутон. Руки ее поддерживали в хрупком равновесии деревянные детали и проволока — подручные средства, от которых вся скульптура могла показаться смешной, однако им не удалось этого добиться. Скорее увиденное воспринималось как издевка над коварством материи, из которой скульптура вырастает, ускользает и парит, звенит, как мелодия. Сильнее, чем на выставке или в музее, где любое творчество предстает лишь в готовом виде и воспринимается как украшение реальной жизни, звучит здесь рождение, чудо, пробуждение человека, изображенное Микеланджело — когда Бог касается его пальцем. У Юрга была репродукция на открытке, которую он снял со стены, чтобы показать Ивонне первого человека, того самого возлежащего Адама, обращающего голову к своему творцу, — не с просьбой, не с благодарностью за дарованную жизнь, а всего лишь с удивлением. И как сильно тяготит еще зеленую землю на переднем плане картины его тело, тупое и неуклюжее, словно искра жизни не успела пронзить всю его плоть. Лишь во взоре блестит пробуждение! А голову человека окружает кусочек синевы, это цвет духа, томления, небесной выси, дальних просторов и всего недостижимого, всего, что заставляет Адама и его потомков встать и шагать по земле, что определяет ход всей истории человечества, которой еще предстояло стать кровавым, бесконечным хаосом… И только клочок синевы вокруг его головы! Райнхарт горел воодушевлением.
Читать дальше