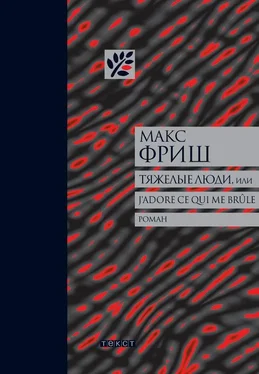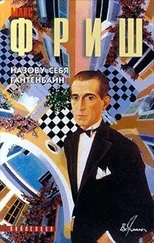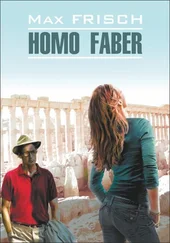А что ей было делать на этом свете? Что у нее было? Она умела играть на скрипке, это верно, умела слушать, когда другие рассказывали о своих бедах и проблемах, умела сидеть в последних своих хороших платьях и доводить людей до того, что они начинали плакать, Бог знает, почему и зачем! Ведь она ничего не делала, пила свой чай, а люди благодарили ее, объявляли своим ангелом-хранителем и были уверены, что она должна гордиться этим и быть счастливой! Масса затраченных сил, совершенно бесплодно для собственной жизни; бесплатный консультант по всем жизненным вопросам, целительница семейных проблем любой степени тяжести, хотя сама она на это не напрашивалась; в своем одиночестве она видела себя окруженной людьми, чье хорошее воспитание никак не помогало в жизни; даже в почтенном возрасте, когда эти люди добивались определенных должностей и почестей, произносили торжественные речи и решали государственные дела, со своим хорошим воспитанием они оказывались беспомощными, словно потерявшиеся дети. К ней приходили с исписанными листами бумаги, со сновидениями и тайнами, а Ивонна смеялась им в лицо — и за это получала охапки цветов, заполнявших ее квартиру, за которую ей, правда, нечем было платить.
Примерно таким было тогда ее житье.
Не прошло и недели после того, как Райнхарт сидел у нее на подоконнике, а он снова заявился к ней и пригласил погулять, сказав, что погода выдалась замечательная, что над озером дует теплый ветер с гор, светит солнце, а над полями раскинулась мартовская синева. Правда, заметил он, за городом, где в тени еще кое-где лежат остатки снега, может быть грязно, так что ей надо надеть прочные ботинки и подходящие чулки. Таких вещей, о ботинках и чулках, ей еще никто не говорил, и она ощутила тайную дрожь надежды, которую, как казалось Ивонне, она давно похоронила.
Райнхарт стал художником — о своем занятии он не сказал больше ни слова, возился с трубкой и глядел куда-то вдаль, словно был глухим или грезил наяву… Они шлепали прямо по полю, на Ивонне были ее самые прочные ботинки, и это оказалось кстати, потому что земля, напоенная талой водой, чавкала у них под ногами, темная, мягкая, словно губка. Теплый весенний ветер овевал их. Он шел без шляпы, расстегнув пальто, — солнце пригревало. Они почти не разговаривали, шли наудачу, повинуясь местности, сохраняя все время некоторую, можно сказать, дружескую дистанцию. В воздухе стоял запах разбросанного по полям навоза, журчали ручьи, приглаживая траву на склонах, а стволы голых деревьев вонзались в синее мартовское небо. Два гнедых жеребца, словно силуэты, вырезанные в голубоватой дали гор, тянули плуг по пологому холму. Странная встреча после стольких лет! Что, собственно, соединяло их, кроме резкого чувства бренности бытия, хотя оба были еще молоды!
— Молоды! — засмеялась Ивонна. — Вы-то уж точно!
Для каждого возраста, заметил Райнхарт, за исключением детства, время — это легкая дрожь ужаса, и все же всякий возраст прекрасен, только не надо отвергать то, что ему подобает, не надо пытаться уйти в грезы или отсрочить его! Ведь и смерти, которой тоже придет свой черед, не отсрочить.
Серебристые края облаков съеживались под лучами солнца. За деревьями, за голыми, почти черными и призрачными сплетениями ветвей проглядывало озеро, лежавшее в туманной низине. Лесистые берега поднимались, словно острова, из металлического блеска воды. А как жил он? Жизнь его складывалась из двух состояний, работы и покаяния, как он это называл. Что касается работы — это была радость, горячка, возбуждение, когда не уснуть, восторг, вопль целыми часами и днями, когда он хотел убежать от себя самого. Это была работа, счастье, охватывающее человека помимо его воли. Потому что только это, способность души пребывать в одиночестве, делает ее открытой! А еще лихость, никого не обязывающая, ничего не требующая, ни на что не рассчитывающая и не жадничающая, жест ангела, у которого нет рук, чтобы брать! Это было счастье, работа с его блаженной манией величия в сердце, когда все оказывается не важным, то есть все, что касается людей, — всего лишь приложение, расточительность в избытке радости! Потом каждый раз оказывалось, что это чувство и было наивысшим из возможных между людьми, становящееся недостижимым, как только мы начинаем стремиться к этому как к цели, испытывая потребность в нем, считая настоятельно необходимым и самым важным. Каждый раз этот внезапный приступ тоски — не потому, что люди уходят, неожиданно и без видимых причин, напротив, они потому только и уходят, что появляется тоска, они чувствуют ее приход заранее, как собаки предчувствуют землетрясение… Тоска, охватывающая все, как черные птицы, которые собираются над дымящимися полями радости, накрывая их тенью страха… Это и было покаяние, всякий раз приходившее после работы, как ее отзвук, как жуткое ощущение другого одиночества.
Читать дальше