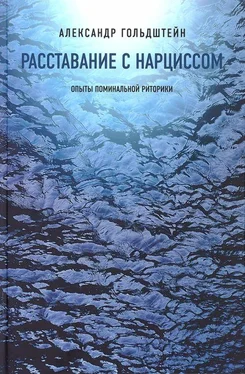Мир все-таки остается чересполосным, и вернувшиеся к жизни уклады былого не способны всерьез воздействовать на отгороженное от них Настоящее. Зато между собой эти новые старые земли вступают в захватывающие альянсы. Обширный сегмент мельниковского текста обязан своим происхождением встрече двух историко-духовных конфигураций: пронзительно-невозвратных провинций эпохи Антонинов и территорий Третьего мира, какими они представлены в сочинениях Фанона, Кастанеды и Абимаэля Гусмана (как видим, прошлое могло быть для Мельникова и совсем недавним). Провинции, словно пеплом и яблоневым дымом, окутаны лирикой предисчезновения. Здесь главенствует мистико-приключенческий эротизм, в основе которого смирение перед неизбежным. Закатное солнце, ветер с моря, некуда спешить, потеряна надежда, но это и к лучшему — не надо себя ни к чему привязывать. Мир, из которого вынут конфликт, выпотрошено реальное содержание. Жизнь расколдована, размагничена, телеология ее мнимая. Все выпито, все съедено, все сказано.
Центральные фигуры этой усталости — Лукиан и Кавафис. Разочарованный и обнищавший Лукиан, вынужденный вернуться к постылому ремеслу бродячего ритора, находит единственную усладу в поэзии Кавафиса, полагая, что этому отставному негоцианту удалось выразить самую душу увядания. Отказавшись от выгодного италийского турне, Лукиан медленно бредет в сторону Александрии и, останавливаясь на постоялых дворах, сочиняет посреди гогота и чесночно-лукового чада комментарий к эллинистическому циклу далекого Константиноса. Многочисленные лжепророки, опознав в этом рассеянном старике своего давнего хулителя, осыпают его гнилыми овощами и насмешками, враги покупной риторики упрекают его в забвении идеалов (ведь это он разоблачал дешевый пафос софистического красноречия), и только несколько гетер постарше, помнящих благодушие, с которым он изображал в некогда прославленных диалогах женщин их ремесла, привечают его на пути. Его встреча с Кавафисом в Александрии конца двадцатых годов нашего века (как выяснилось, горячо желанная обоими) влечет за собой череду совместных приключений в городских кофейнях и борделях, причем несходство сексуальных векторов поэтов приводит к забавным недоразумениям с партнер(ш)ами, все время норовящими схитрить. Различие литературных вкусов не мешает тонкому взаимопониманию: они читают древних и новых стихотворцев, обмениваются суждениями друг о друге и размышляют о создании «Малой морской антологии отреченной словесности», предположительно в девяти томах ин-фолио, но ветер Средиземья обращает в пену и золу все корректурные листы, и против этой предначертанной абракадабры (афра кай тефра) у них нет ни метода, ни средства, ни судьбы. Торговый расцвет Александрии, прожигающее ее желание удовольствий поселяют в Лукиане надежду на то, что город снова сможет стать средоточием распавшейся изящной ойкумены, однако Кавафис, указывая на море, не успокоившееся ни на минуту за время их общения, говорит, что им пора уже расстаться, ибо холод, косой волной идущий с андских предгорий, становится невыносимым и скоро в нем утонут бухта, маяки, библиотека, кофейни с робко-неотвязными педерастами, гостиницы для коммерсантов и любовников, женщины, соединившие безропотность с гордыней, в нем утонет даже море, — короче, все, что можно отыскать в Александрии, скоро станет пеной и золой.
В это время Третий мир, понукаемый к самобытности своими нетерпеливыми пророками, мечтает опровергнуть неподвижную диалектику слуги и господина, когда потные тела негров, арабов и людей желтых рас образуют европейский перегной. Повстанческая негативность беднейших территорий инспирируется главами двух расположенных в Андах духовных центров-штабов, Карлосом Кастанедой и Абимаэлем Гусманом, между которыми существует непрерывное наркотелепатическое сообщение. Колдовская реликтовая уединенность — истина обоих, автора «учения Дон Хуана» и вождя «Сияющей тропы». Оба они маги, создатели отдельной реальности, в которую эмигрировали без возврата. И если Кастанеда вначале все сделал из голого слова, не ведая, что есть более действенный праксис, то Гусман немедленно обратился к партизанскому жесту, к сухопутному начертанию революции, к ее перманентности. Первый возобновил память о материке тайного народного знания, второй уберег в чистоте иероглифическое письмо маоизма. Острова в океане, осколки могущественных доктрин. Последние индейские колдуны, последние маоистские герильерос — Земля не желает больше нести их на себе. Но они не сдаются, на их стороне Абсолют. Релятивизм Кастанеды мнимый, сверхзадача его философской активности — поиск волшебной вечности, к обретенью которой стремится и великий колдун-убийца Гусман, изглоданный континентальной тоскою. Они оба незримы, глаз не фиксирует их. Партизанский вождь по определению должен быть невидимым и вездесущим, как растворенная в воздухе субстанция отрицания, но конспиративная непроницаемость Гусмана иного, мистического рода. Она есть следствие обладания совершенным знанием и не сводится к соображениям безопасности. Это неуловимость священного шамана или жреца потаенного культа. Кастанеду тоже никому не удавалось увидеть, но и увиденный, он не может быть узнан. Медитация — путь Кастанеды, коллективизация крестьян и герилья — выбор Гусмана. Их встреча становится неизбежной, она происходит над Андами, где объединяются, чтобы стать неразлучными, два наркотелепатических вихря, и пейотль-мескалито философа проникается кокаиновой верой солдата. Воздух наверху скорее прохладен, нежели холоден, внизу холоднее, этот воздух прозрачен и сумеречен, в нем как бы постоянно смеркается, но не может стемнеть, в нем пахнет влажными древесными корнями, хвоей, палой листвой, речным илом, затерянной церковью, отзвучавшим колокольным звоном, землей, всеми неподвижными растениями, непрочитанными рукописями проигравших революций, тишиной, старостью, вечным возвращением, засохшим семенем, девственностью, вероятно, смертью. Здесь по-другому протекает время или его нет совсем, здесь возгорается идеология двух породнившихся стихий — тотальная галлюцинаторная война, перенесение собственного зияния на остальные территории, подчинение их безвременью Третьего мира, неожиданно воспринявшего потоки, исторгаемые из себя омонимическим двойником — Третьим миром Карла Поппера.
Читать дальше