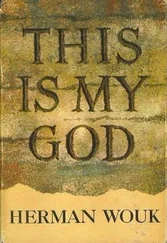И вот теперь мы с заместителем государственного секретаря должны встретиться с израильским послом; на повестке дня встречи — обсуждение последних дебатов в ООН об Израиле. Не знаю, чего мы добьемся. В ООН всегда идут дебаты об Израиле, и результаты голосования — всегда против Израиля, со счетом сто семьдесят девять или около того против одного-двух. Чистейший театр абсурда, сплошной Сэмюэл Беккет. Сведите всю драму к одинокой фигуре, попавшей в отчаянное и, казалось бы, совершенно безнадежное положение, но ухитряющейся выжить только благодаря неуничтожимости человеческого духа. О да, старик Джойс знал, что делал, когда он сделал Улисса маленьким сиротливым евреем среди оравы враждебных ему дублинских ирландцев.
Я собирался приступить к рассказу отом, как мой отец начал свою жизнь в Америке, и о его двух компаньонах-минчанах, вместе с ним открывших прачечную. И как только я вернусь к своей истории, на сцене появятся клоуны.
* * *
Реувен Бродовский был маленький, тучный человек с болезненным цветом лица, с густыми волосами, разделенными пробором, и пушистыми усами с проседью. Он на все глядел сощурясь и как-то искоса, словно опасаясь карманников — или полицейских, после того как он сам обчистил чьи-то карманы. Уже четырех лет отроду я относился к Реувену Бродовскому очень подозрительно. Как вы поймете позднее, я был умным ребенком. Бродовский был женат на урожденной американке — хорошая пожива для зеленого новичка-иммигранта. Эта американка была дородная, веселая женщина, постоянно вырезавшая из женских журналов романы с продолжением. Ее квартира была доверху завалена романами Питера Б. Кэйна, Кэтлин Норрис и Октавуса Роя Коэна, на которых лежал густой слой пыли, поскольку, как постоянно говаривала миссис Бродовская, работа по дому — это не ее стихия.
Это еретическое высказывание, помню, привело в буйный восторг мою сестру Ли, которая, впервые его услышав, ринулась домой и объявила маме:
— Мама, миссис Бродовская говорит, что работа по дому — это не ее стихия!
Мама, помешанная на чистоте и уборке, сморщила нос, громко втянула воздух в ноздри и, как я помню, сказала:
— Вот потому-то, когда от них уходишь, оставляешь следы на тротуаре.
Мне нравилась эта беспечная толстая дама, и журнальные вырезки, которыми была завалена ее квартира, казались мне ничуть не более странной причудой, чем мамина страсть постоянно ползать по квартире на четвереньках и скрести полы. Нравились мне и дети Бродовских — три мальчика и девочка. Возвращаясь из школы, они сами готовили себе еду из продуктов, которые были в холодильнике, и меня тоже угощали, пока их мать сидела, не обращая на них внимания, и скрепляла сшивателем вырезки из журнала «Космополитэн». Если в холодильнике не было ничего такого, что можно было сварить или поджарить, они ели хлеб с горчицей. Мне казалось, что на свете нет ничего восхитительнее хлеба с горчицей, хотя сейчас я не понимаю, почему они мазали на хлеб именно горчицу. Может быть, миссис Бродовская считала, что и масло не ее стихия?
Мистер Бродовский, как и мой отец, был родом из Минска. Приехав в Нью-Йорк, он поселился на Манхэттене, в нижнем Ист-Сайде, где он нашел работу в маленькой прачечной: его обязанность заключалась в том, чтобы забирать в прачечной пакеты с бельем и развозить их клиентам на тачке. Там же работал и другой папин компаньон — Сидней Гросс.
Сидней Гросс был очень высокий, очень тощий, очень бледный и очень унылый человек. Его пессимизм относительно прачечной, относительно собственного здоровья, относительно всего будущего не имел ни конца, ни краю. Он только и думал, что о нужде да о неизлечимых болезнях. Сидней Гросс пережил моего отца, пережил Бродовского (который жил вечно) и умер богачом, потому что он всю жизнь ничего не тратил, а лишь копил деньги и на них покупал дома в Бронксе, которые сдавал внаем. Он курил больше, чем Ли, но это ничуть не помешало ему сохранить чудесный чистый баритон, которым он пел в синагогальном хоре, где мой отец был запевалой. Когда мама приехала в «а голдене медине», Гросс ухаживал за маминой двоюродной сестрой — моей теткой Идой. Через Гросса-то мои родители и познакомились. Мой отец и Гросс работали тогда в одной и той же прачечной; и в один прекрасный вечер Гросс познакомил папу с Идиной красавицей-сестрой в кафе на Атерни-стрит. И, стало быть, легкая рука Сиднея Гросса — рука, один из пальцев которой явно был перстом судьбы, — повернула ключ в золотой двери бытия, за которой скрывалось рождество И. Дэвида Гудкинда — или второе пришествие Минскер-Годола.
Читать дальше