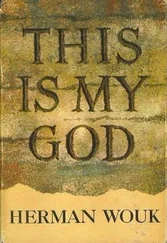Итак, мама мне что-то рассказывала, а может, мы просто тихо сидели, мечтая каждый о своем. Неожиданно отворилась дверь, и, оглушительно вопя, вбежал мой старший брат Илюша. За ним вбежал папа, размахивая ремнем, с громким криком:
— Мой сын в шабес катается с горки на глыбе льда! И это ты, Илья, вот-вот перед «бар-мицвой»! Вот-вот перед тем, как поступить на службу клерком на лесопилку Оскара Когана! Ты, лучший певец в хоре реб Мордехая! Что скажет реб Мордехай, когда он об этом узнает?
После каждого выкрика отец вытягивал брата ремнем. Оба они кричали благим матом, и я тоже закричал, и мама закричала. Никогда я не видел ничего подобного! Маме потребовалось немало времени, чтобы утихомирить папу; наконец он отложил ремень и пошел в синагогу. Илюша, немного еще похныкав, поплелся за ним следом. После этого мои родители ни разу даже не заикались об этом происшествии — по крайней мере, при мне. Только мама однажды сказала, что она никогда не видела, чтобы отец так рассердился и чтобы он ударил своего ребенка.
Прошли годы, я вырос и стал больше понимать, и это событие все время продолжало мне вспоминаться. Я все спрашивал себя: почему отец пришел в такую ярость? Только ли потому, что грешно кататься с горки в субботу? Едва ли. Папа никогда не был религиозным фанатиком. Конечно, он соблюдал еврейские обычаи, но я не представляю себе, чтобы за такое нарушение он мог так наказать своего сына. Он мог бы сделать Илюше внушение, и тому это было бы куда больнее. Нет, дело было не в этом.
Или, может быть, папа боялся, что из-за Илюшиного поступка его уволят? Кроме того, что он делал всю черную работу шамеса, прибирал и подметал синагогу, наводил чистоту во дворе, он также читал Тору и Мегилот, пел псалмы. Голос у папы был не очень сильный, но мелодичный, и папа обладал хорошим слухом. Его пение все расхваливали. Но, конечно же, были у него и завистники, они постоянно пытались к нему в чем-то придраться. Папа это знал. Может быть, он боялся, что Илюшин поступок вызовет скандал и лишит его средств к существованию?
Но могла быть еще одна причина. Он очень любил своих детей. Одна лишь мысль о том, что с кем-то из них может что-то случиться — например, что Илюша не удержится на ледяной глыбе и расшибется или, еще того хуже, слетит в полынью и утонет, — приводила его в содрогание. Никогда после этого он ни меня, ни братьев и пальцем не тронул. Да, именно в этом, наверно, было все дело.
Илья при мне только один раз упомянул об этом происшествии. Это случилось в тот же вечер. Когда мы укладывались спать, он мне шепнул:
— Я им покажу! Я уеду в Америку.
Я был такой маленький, что ничего не понял. Я спросил:
— А где эта Америка?
Он ответил:
— Это далеко-далеко, за океаном, и это свободная страна, это «а голдене медине».
Как это может быть, что я помню этот разговор так много лет спустя? И все же я его помню — помню так ясно, как будто это случилось вчера. Это оставило неизгладимый след».
Так-то вот. Дядя Хайман оставил после себя еще немало заметок — они написаны на аккуратных линованных листах четким почерком тети Сони: должно быть, он их ей диктовал, некоторые его рассказы — например, о том, как водонос Хай-кель дрался в синагоге со своей женой, у которой была скрюченная рука, — могли бы вас немало позабавить, но все это не имеет никакого отношения к рождению Дэвида Гудкинда. Однако «поруш» — имеет. История с «порушем» занимает добрую половину страниц, написанных рукой тети Сони, и именно благодаря «порушу» мой отец смог эмигрировать, так что я вкратце изложу эту историю. Она к тому же кое-что добавит и к характеристике шамеса Шайке Гудкинда, моего второго деда, которого я никогда в жизни не видел: он прожил всю жизнь и вырастил большую семью в своем бревенчатом отсеке, отгороженном от синагогальной прихожей в Минске.
До тех пор как я прочел воспоминания дяди Хаймана, я почти не думал о том, что, в сущности, у меня было два деда, потому что в моей жизни такую большую роль сыграл «Зейде». Я понятия не имею, как выглядел мой другой дед, не знаю, как и когда он умер. Знаю только, что он был еще жив, когда мама ездила из Америки в Минск — задолго до моего рождения — и там снова переступила порог отцовского дома. Там она впервые увидела Шайке Гудкинда. Так она мне однажды рассказала, добавив, что ее свекор был «приятным человеком». И больше ничего. Как я понимаю, дочери раввина не слишком приятно распространяться о своем родстве с каким-то шамесом или о том, что ее муж родился и вырос в бревенчатом отсеке, отгороженном от синагогальной прихожей.
Читать дальше