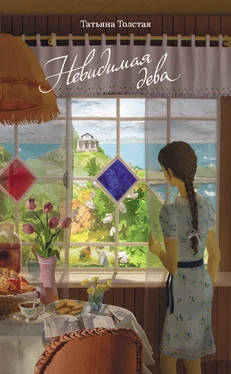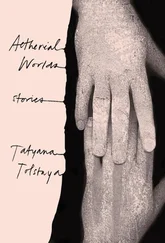Она все еще была хорошенькая, Клавсевна, легкая и курносая, и даже длинноногая. Говорить нам с ней было не о чем, а вроде бы надо было, и она внезапно рассказала мне историю своей жизни – прямо там, ни с того ни с сего, сидя на девичьей коечке, с сосисками на коленях.
В 1914 году у Клавсевны был жених, красивый, влюбленный. Они шли под руку по Невскому, недалеко отсюда, кстати. На мостике через канал Грибоедова повстречали цыганок. Посмеялись, решили погадать. Цыганка сказала Клавсевне, что всякий, кто возьмет ее замуж, умрет. Еще посмеялись. Потом началась война. Его убили.
А в двадцать каком-то там году, когда она уже отплакала, оттосковала, к ней посватался один чудесный человек, инженер. Она собиралась замуж за него, но он погиб. И она вспомнила цыганку и испугалась. А в конце тридцатых она ехала в поезде. И в купе познакомилась со старичком, профессором. Он все смотрел на нее, смотрел, а потом вышел за ней в грохочущий коридор и сказал ей: вы такая красивая! выходите за меня замуж! я вдовец, у меня взрослые дети, деньги у меня есть, я буду носить вас на руках.
И она попросила три дня, чтобы подумать. И по прошествии трех дней отказала старичку-профессору, потому что смерти ему, хорошему человеку, желать не могла.
И больше ничего не было. Ни женихов, ни любви, ни детей, – ничего, кроме витаминных капель в глаза и высоких подушек в постели.
– А ты… ты не купишь ли у меня открытку? И тарелочку? Мне бы три рубля, – сказала Клавсевна.
И я дала ей три рубля за открытку и тарелочку.
На тарелочке, обрамленной витой мещанской проволокой, трепетал плохо нарисованный жаворонок, и славянской вязью был выведен укор: «Что ж ты спишь, мужичок? уж весна на дворе». А на открытке изображен был солдатик с гармонью, и написано: «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя».
А что было написано на обороте и заклеено бумажкой – нам знать не надо.
– Как там Олечка? – спросила Клавсевна.
– Хорошо, – соврала я.
– Точеная фигурка… – вздохнула Клавсевна.
– Да…
Я хотела напомнить ей, что сосиски хорошо бы в холодильник, но, наверно, холодильника у нее не было.
У нее ничего не было.
Поэтому в комнате было так пусто и светло.
– На память тебе обо мне, – показала Клавсевна глазами на мои жалкие приобретения. – Может быть, вспомнишь иногда.
На пороге я обернулась, но она уже растворилась в воздухе и слилась с белым вечерним светом.
Жил человек – и нет его. Только имя осталось – Соня. «Помните, Соня говорила…» «Платье похожее, как у Сони…» «Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня…» Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная комната – смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех – догони-ка.
Нет, постойте, дайте вас рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу – потеки клея от мочального парика, а голубые стеклянистые глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница! А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути – в самый неподходящий момент и, конечно, без предупреждения.
Ну раз вы такие – живите как хотите. Гоняться за вами – все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.
Ясно одно – Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед – в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, – истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было принято – домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королев, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу