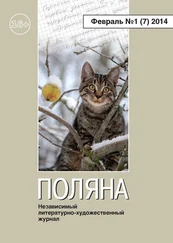— На друга не качу, што ль?
— Друзей люди сами себе выбирать должны. Извините.
— Ну-ну… Молоток, щеглиха. Валяйте на свой добровольный, трудовой фронт.
К месту виктории спешили родители.
Когда Солнышко и Анюта сидели после у Цискеровичей — «… попробуй вот вишневого?… а земляничного?…а финского шоколада?» — и лишь после улыбчивые тетя Тома и дядя Вова оставили девочек «на междусобойчик», Солнышко отодрала с губы пластырь и, мазанув пальцы в сукровице, потянулась к отпрянувшей подруге:
— Мы с тобой сегодня, как в книжке Сат-Ока, — на Анютиной щеке появилась красненькая полосочка, — и тебе надо дать имя.
— К-какое?
— Красивое. Цесарка.
— Эт ж вроде… курица… или индюшка.
— Может и курица. Но красиво. Значит и курица красивая. Между прочим, папка грил — и павлин курица. Теперь мы с тобой — Солнышко и Цесарка. Кровные сестры. На всю жизнь.
* * *
Через девять лет Цискеровичи уехали на ПМЖ.
Накануне молодежь двора, даже и из заквартальных подвалило, собралась на проводы Аньки Цесарки, на давно перетасканные в тот самый разросшийся газон лавочки. Натащили жрачки-хавки, «сушняка», портвейна и «водовки», и костерок маленький развели, зная, что никто сегодня не станет орать им из светящихся домашним окон, загонять и «пресекать».
Хорошее, уютное место получилось «в газоне» — здесь догуливали свадьбы, дни рождения и проводы, очередные освобождения и разводы Огурца, здесь поминали зловредную Тамару Семеновну и Борьку Губерднова, не вернувшегося из Афгана, а год назад и тихого, «молодого» дядю Вову, папку Аньки.
Солнышко и Цесарка сидели, обнявшись, и остальные старались им не мешать.
— Оказывается, не все люди одинаково советские, — сказала Солнышку Цесарка.
И, наверное, впервые Солнышко не нашлась, что ответить кровной сестре.
Год 200…
Во двор въехал грузовик, и начали выгружаться новые жильцы.
Все как обычно: мебель, перекрики «…а где?..», фикусы-герани, холодильники-микроволновки-шкапчики, коробки-чемоданы-тюки и она…
— Гру… Груздева. Солнышко! СОЛ-НЫ-ШКО!!!
— Анька?… Анька!!! Цесарка!!!!!!!
— Значит, вернулась…
— Вернулась. Советский я человек, оказывается. Хотя и накрылась та клятая совдепия закономерным медным тазом — чтоб ее…
— А там… как? Тетя Тома… жива?
— Жива, слава клятой Торе… А твои?
— Мама — в прошлую зиму. Папа в 95-м. Хотел, наконец, лучший и самый честный репортаж сделать, четыре десятка лет хотел, наконец и случилось…
— Прости. И долей. А там-то… Да всяко там. Ты сча со стула упадешь — я ж майор в отставке.
— Ты? Майор?!
— А то!.. А исчо бизнесвумен. А исчо мать трех девчонок.
— Трех?!
— А то. А исчо дважды разведенка и доктор исторических наук. А… у тебя как?
— У меня… Да нормально. Училка я. Обычная училка в 202-ой, заквартальной. Но лучшая, однако… по округу. И тоже дважды разведенка. Своих детишек нет. И не будет.
В окошко постучали. Тихонько. Почти пошкрябали.
Располневшая Солнышко заливисто, по-когдатошнему засмеялась, подмигнула подтянутой и загорелой Цесарке и крикнула в форточку:
— Ну че? Приперся-таки?
— Кать, ну прости — а?.. Ну прости… Солнышко ты мое, — прогундел, туберкулезно закашлявшись и размазав худую, прошрамленную физиономию по задождливому стеклу, седой Огурцов. — Оооо!!!.. Какие люди в Голливуде!!! Цэ ж Цесарка, блин!!! Ша и стоп-кран! — я сча сгоняю.
— Заваливай уж давай… Я тебе сгоняю. Все у нас есть.
Мне очень холодно. Баба Тоня обещала принести шерстяное одеяло, чтобы я лучше спал. Она знает, как по ночам я хожу по коридорам в надежде согреться. «В надежде». Так Машка учит говорить. Только она со мной дружит. Остальные почему-то смеются и треплют меня за волосы. Чем они им нравятся, не понимаю?
Баба Тоня говорит, что я другой, и все время повторяет: «Бедный, бедный мой Каро». А чего это я бедный? У меня больше, чем у всех, конфет, и одет я не хуже. Только в каждый класс я хожу по два года, но Машка говорит, это хорошо, нечего мне делать в ее восьмом. То есть жаловаться не на что. Разве что в детский дом на Новый год приходил Дед Мороз, а в интернат почему-то — нет. Наверное, у него просто заканчиваются подарки и он уже не может нам их дарить и ему стыдно. Может, поэтому у него такие красные щеки? Как думаете? Мне очень интересно, что вы скажете.
Я люблю разговаривать. Но, кроме Машки и бабы Тони, со мной почему-то никто не любит говорить. Дурачком называют. А чем они лучше? Лешка из седьмого смеется всегда, а Мишка и того лучше — на пол падает. Странные они… А Машка… Машка хорошая. Только плачет часто. Ну и пусть плачет, слезы ведь тоже хотят гулять, нельзя их держать в себе. Я тоже плачу, когда с мамой разговариваю. Встречаемся каждый день, в пять вечера на небе. Баба Тоня рассказала мне: моя мама там и ей хорошо. Вокруг нее ангелы. Они не дают ей болеть. Я рад, что мама там. Начинается зима, и она обязательно бы простудилась. Сегодня, когда я залез на высокую лестницу к маме, она зачем-то кинула в меня снегом. Завтра обязательно расскажу об этом Машке. Она тоже любит мою маму. Иногда мы забираемся на лестницу вместе. А после она говорит, что ей меня очень жалко. Что значит жалко? Мне на улице собак жалко. Зачем люди дают им свободу и отпускают навсегда? Потом они переворачивают наш зеленый бак, который дядя Матвей каждое утро ставит на место. Но я же не собака, а человек. Или вот бабушку жалко, которая каждое утро проходит мимо нашего забора с сеткой, в которой буханка хлеба и молоко. А ведь она, наверное, хочет и конфет… Я решил, что когда соберу целый пакет их, то подарю ей.
Читать дальше