А еще на следующий день Лидочка и Кошка-Машка пошли к морю.
Море, стянутое огромной бухтой, рассеченное глубоко вдававшимся в него молом, стонало, пенилось и работало.
Пробежал, обвешанный покрышками, буксир-трудяга…
Почти черпая бортами воду, матово посвечивая увязанной на палубе строганой доской, проплыл лесовозик. Поплыл он куда-нибудь в Грецию или Италию, где давно вырубили строевой лес; поплыл, перегруженный, рискуя, надеясь на хорошую погоду, а глядишь, пройдут сутки, вторые, и где-нибудь в Босфоре пойдут по небу низкие тучи, налетит ветер, ударит волна по хрупкой посудинке — и полетят с палубы, словно спички из открытого коробка, мокрые доски. И долго будет потом низенький капитан-итальянец в растерянности сжимать форменную старую фуражку, утирать вспотевший лоб и проклинать и лесовозик, и море, и неудачный фрахт, и свою судьбу.
Но это будет потом, а сейчас все «о’кей!» — доски на палубе, капитан на мостике, фуражка у него на голове, и его маленький лесовозик мелкими, пронзительными свистками приветствует входящий в порт громадный танкер — своего земляка. Но тот едва замечает лесовоз — чуть рыкает басисто и катит дальше, к нефтепирсу, оставляя за собой расходящуюся углом волну, заставившую неистово задергаться лесовозик, а его капитана нахмурить лоб и отдать приказание еще раз проверить прочность крепежа штабелей на палубе.
Через три-четыре дня наполнится танкер нефтью, а там снова в путь, в Италию. И недели через две побежит кубанская нефть по башням и трубам, завспыхивает в «фиатах», засверкает на сгибах знаменитого плаща «болонья» нового фасона, заискрится в тонких, как шелк, и легких, как пушинка, набивных нейлоновых платочках, запружинится в разномастных носках «нейлон 100 %» и «креп-нейлон 100 %». Налепят на этих вещах яркие наклейки «Сделано в Италии», развезут по всему свету и начнут торговать, темпераментно уверяя, что лучше и надежней этих вещей нет в целом мире…
Ошеломленная новыми звуками и незнакомыми запахами, Кошка-Машка испуганно жалась к ногам Лидочки. А Лидочка, сыпнув горсть медяшек в хлестнувшую о бетон волну, взяла на руки кошку и, не уклоняясь от роя соленых брызг, сыпавшихся на ее черные, такие же тяжелые, как у матери, волосы, сказала, обращаясь не то к буксиру-трудяге, не то к морю и городу, не то ко всему этому разом:
— Прощайте, прощайте и не забывайте меня! Когда теперь свидимся?
И через три дня Лидочка уехала. Уехала куда-то далеко, в маленький поселок под Хабаровск; уехала, недоучившись в музыкальном училище последний курс; уехала наперекор недоуменно уговаривающим сокурсникам, вопреки слезам матери, а, может, и самой себе.
Приняв решение у моря, она все еще колебалась. Сомнения опять охватили Лидочку, лишь только она поднялась в переулок. Погода испортилась вконец. Закропил нелетний мелкий дождь. Прямо перед ними стоял их старый дом. Желтая штукатурка во многих местах сползла, открыв синюшный шлакоблок. Вверху тускло серел облезшей позолотой шпиль. Слева и справа начали строить первые в городе девятиэтажки, построили уже этажей пять, но их беленькие чистенькие фасады лишь оттеняли старость дома со шпилем и вносили в общую картину хаос и беспорядок.
— Нет, — вдруг сказала Лидочка, крепко прижимая к себе Кошку-Машку. — Решено. Еду. Не могу больше видеть этот дом с дурацким шпилем, ходить по квартире. Даже пить из наших пасторальных чашек не могу.
…День отъезда был особенно тяжел. Многое уже осталось позади: и резковатое, немного неуклюжее объяснение дочери с матерью (начав говорить, Лидочка уже знала, что мать ее не поймет, поэтому и говорила резко, а получалось еще и неуклюже), и непонимание Зои Иосифовны (куда ехать!? зачем!? а музыкальное училище?), и ее слезы потом, когда, так и не поняв, отчего же Лидочка уезжает, она, вдруг упав на диван, забилась и запричитала совсем по-бабьи — неистово и тонко.
— О-о-ох!.. Да на кого же ты меня оста-а-а-авил? — заломив руки, глядя на портрет мужа, причитала мать. — О-о-ох!.. Да кругом же я одна-а-а…
У Лидочки мучительно сжималось сердце. Ей захотелось упасть рядом с матерью и поплакать, и об отце, и о их вот такой судьбе, и еще бог весть о чем. Но не смогла. Какой-то черт сидел в ней. Сидел и шептал: смотри, вот за все годы единственный раз ты видишь свою родную мать без рисовки, такую, как есть, Да и то не до конца. Ну зачем вот она причитает, что кругом одна? Ну почему она не скажет: «Остались мы с тобой, доченька, одни, совсем одни, и нет с нами моего Ванечки, а твоего отца»? Да скажи она так, даже я, черт, и то ничего не смог бы сделать. И упала бы ты, Лидочка, рядом с матерью и облились бы слезами, да никуда бы ты, Лидочка, не поехала, а там, глядишь, от сиротства и понимать друг друга стали…
Читать дальше
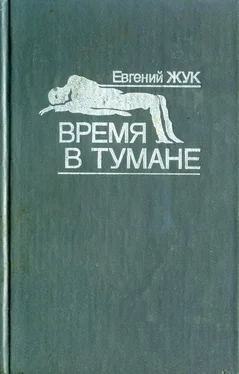




![Евгений Щепетнов - Время зверей [СИ]](/books/403908/evgenij-chepetnov-vremya-zverej-si-thumb.webp)
![Евгений Гаглоев - Время Темных охотников [litres]](/books/407061/evgenij-gagloev-vremya-temnyh-ohotnikov-litres-thumb.webp)





