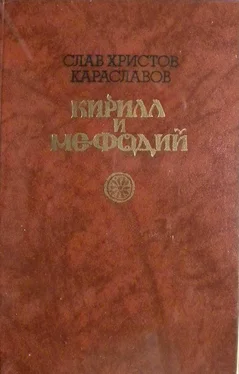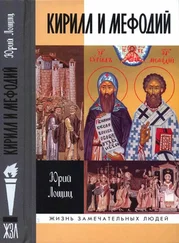Ирина откладывала и это, а в служанке она нуждалась... В Константинополе она привыкла бездельничать, сидеть за пяльцами и тянуть и тянуть нить воспоминаний. Даже одевали ее служанки. Теперь приходилось самой заниматься всем, самой одеваться, и одеваться по-прежнему изысканно. В ней глубоко жила тайная мысль понравиться кому-нибудь и а здешних патрициев, честолюбие недавно любимой женщины не позволяло отказаться от этого намерения. Ирина часто ходила в церковь Санта Мария Маджоре. Ей нравился теплый голос архиепископа Адриана, его речь, полная мудрых поучений и трудная для понимания, погружала ее в утраченное прошлое. В нем было что-то пугающее и в то же время притягивающее, была мужественность, смягченная годами. Кроме того, церковь Санта Мария Маджоре посещали соотечественники Ирины, священники, покинувшие по разным причинам Царьград — либо в период иконоборческого движения, либо в период распрей с Игнатием. Ирина с упоением слушала их, не рискуя заговорить. Они могли бы оказаться сторонниками Игнатия, которых Варда велел выгнать из Константинополя, а она боялась этого. Вероятно, их, как и ее, посадили на корабль, не дав возможности проститься с близкими. Если так, они должны были ненавидеть кесаря. И все же она слушала их, ибо родная речь скрашивала ее одиночество.
Ее привлекали также мозаики на стенах и на арке, что-то очень близкое в них, что возвращало Ирину в знакомый мир. Они были как бы продолжением старинных работ с христианскими мотивами и речными пейзажами, столь типичными для Константинополя. Время от времени до нее доходили обрывки известий о распре в Византии, о новых преследованиях. Многие знатные люди были разбросаны по империи или уже переселились на тот свет. Так, однажды Ирина услышала имя Антигона. Оказывается, он попытался поднять бунт против василевса, пошел с частью войск к монастырю, где томилась Феодора, намереваясь освободить ее, но свои же люди поймали его и прибили к чему-то — Ирина не поняла, а спрашивать было неловко. Могли огрызнуться — зачем, мол, подслушиваешь чужие разговоры. Неизвестность мучила Ирину целую неделю. Антигон!.. Выходит. Варда специально послал сына привести войска, ибо чуял свой конец? А где Петронис? Что с ним? Неужели он позволил схватить и убить себя, хотя вся армия была в его руках? Вопросы остались без ответа. Они растворились в сумраке церкви и в приятном голосе архиепископа Адриана, в их странной гармонии, которая отрывала Ирину от земных страстей.
Она сидела на деревянной скамье, опустив голову, углубленная в себя, одинокая, всеми забытая. Далекие голоса выплывали из сумеречной глубины, звали ее, упрекали или радовали чем-то совсем мелким и незначительным. Мелодичнее всех звучал голос Константина. Он был столь явствен, что Ирина вздрогнула и подняла голову, ища Философа взглядом... И тут же осознала: голос архиепископа был очень похож на голос Константина. Она подсознательно отождествила их еще раньше, невольно впав в самообман. Теперь Ирина нуждалась даже в иллюзии, и потому она упорно продолжала ходить в церковь Санта Мария Маджоре. В старую кафедральную церковь, которая снова станет местом ее встречи с тем, о ком она не забыла...
В который уж раз просматривал Борис послание патриарха Фотия и все удивлялся его назиданиям. Фотий учил, как надо править страной, но о самостоятельной болгарской церкви даже не заикался, будто князь не писал ему об атом. Трудно было понять, притворство это или неуважение. Борис испытующе вглядывался в послание, красивые буквы танцевали перед глазами. Глубокомудрые, пропитанные запахом ладана советы, придуманные в тиши патриаршего мира, вызывали у него кислую гримасу — такими они были книжными, оторванными от земной жизни. Да и не могли они сейчас быть полезны Борису. Патриарх знакомил его с решениями церковных соборов, пытался возвысить его дух над всем земным, дабы подготовить к небесной жизни, где он получит «невыразимое и вечное царствие небесное как неотъемлемое наследие, как нетленное жилище, как сверхъестественное, божественное веселие и непреходящее наслаждение».
Резко отодвинув послание, князь велел седлать коня. Хотелось рассеяться, сбросить с плеч гнетущие государственные заботы, почувствовать себя как прежде, когда он еще не был христианином и не получал таких премудрых советов. Пока Борис ждал коня и свиту, он снова заглянул в послание: о гневе там было написано: «Гнев есть самовольное исступление, отчуждение человека от его собственного разума. Поэтому тот, кем овладел гнев, совершает такие поступки, какие обычно совершают сумасшедшие».
Читать дальше