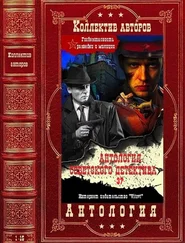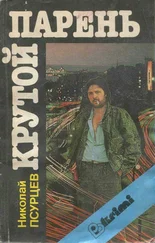Окунулся, плыву, темнота гладит щеки, пальцы, она густая и теплая, нежная, как мех, ворсинки забираются в нос, хочется чихать и смеяться, я смеюсь, я уверен в непредсказуемости мира и в его вечности. Подо мной арена, черная по краям, в середине ее круг света. Свет жжет арену и человека, который стоит посередине круга, воздев руки к небу, к потолку цирка или обыкновенно вверх, смотрит в мою сторону, словно знает, где я, и улыбается, по-прежнему голый…
— Когда вытягиваю руки вверх, я себя чувствую. — Кудасов не снимал с лица улыбку, тянул кончики губ все так же к вискам, как и в тот миг, когда я увидел его, мышцы вздрагивали то там, то здесь, то тут, как у лошади в зной под мухами, член, не полно накачанный, тревожился на сквозняке. — Не идентифицировал себя с собой лет до десяти. Вроде был, а вроде и не был. Осознание себя не каждому удается. До конца жизни многие, большинство спят, срут, трахаются неприятно, так и не понимая почему, для чего и что понуждает, кто… Так и я спал… Долго. Как и все… Даже если и спешил, то по инерции, без необходимости и без удовольствия. Не знал, что такое удовольствие и зачем. Никто не объяснил, не показал, не подарил… Сам дознался. И не просто, а даже классифицировал его. Удовольствие от вкуса, от цвета, от девочки, от мальчика, от идеи, от нового, от безупречности — хорошо, удовольствие от осознания себя, от понимания того, что ты что-то можешь и от контроля над собой, — все… Пробовал, не удавалось. Пробовал. Не удавалось. Пробовал, мать мою, бля! Не удавалось, на х…! Ни осознания, ни понимания, ни контроля! Так слаб, так слаб… Убивал себя. Но понарошку — чтобы пожалеть потом себя же… Что дает ощущение не зря потраченного времени и ощущение величия, что не менее важно? Сотворение тобой того, чего еще не было. Не любовь, не добро, не внутренняя гармония и даже не цель, а именно сотворение тобой того, чего в этом мире еще не было, в твоем мире…
Ты труп, пришептывал, без ярости теперь и даже с сочувствием и без ненависти, это уж наверняка; ненависть всегда слабость, я добился понимания этого от себя — недавно, сострадание и доброжелательность к противнику — вот это настоящее; я убиваю кого-то или я просто, допустим, что-то делаю кому-то скверное, вовсе не потому, что не люблю этого кого-то или ненавижу, а всего лишь потому, что должен подобное сделать, обязан, вынужден, не имею права не действовать, такой мой поступок принесет пользу, он окажется правильным, востребуемым, ты труп, ты труп, ты труп… Теперь решусь. Рука, без сомнения, послушается. Она уже дрожит от нетерпения. Еще несколько метров. Совсем немного ступеней.
— Дети? Они же тоже умрут. Мне страшно производить их на свет. Пусть кто-то другой берет на себя эту ответственность. Я жесток. Но не до такой же степени, в конце концов. Мне их жалко. Мне их жалко. Мне их жалко. Как и себя… — Поднятые руки побелели и высохли, вены, жилки, сухожилия отвердели, вспучили кожу, пальцы, ладони меловые, совсем как гипс, может быть, умерли. — Влиять на мир, изменять его — также мудрое и божественное занятие… То-то и так-то было сегодня, и вчера, и позавчера, и сто лет назад, и двести, и всегда, а я сделаю по-другому, лучше… Могучее ощущение. Как такое осуществить?.. А у меня же ведь Дар! Я внушаю страх. Не всем, к сожалению, но многим и очень часто и, как правило, тем, кто решает… Размел цирк к е…й матери! Убрал всех. Видел, что тяготятся своим делом, мечтают о другой жизни и мужчины и женщины, смотрел на них всех и говорил с ними с отвращением, вялые, спят, ничего не желают… Набрал тех, в ком видел задор и движение… Нашел наслаждение и удовлетворение собой. Сделаю лучше… Изменять мир — значит тоже укрываться от неизбежного. Но укрываться таким образом — значит, во всяком случае, приносить вместе с тем и пользу — миру, себе, кому-то из людей, хотя бы одному… Когда энтузиазм прошел и пришла работа, выяснилось, что большинство из тех, кого я набрал, тоже на самом деле желают себе другой жизни…
Наступил на опилки, вот я уже рядом, ствол примеряю к промежности Кудасова, у руки нет возражений, и у пальца, и у плеча, и у глаза; скажи мне, где девочка, или ты действительно труп; молчу, только слушаю, говорить мне пока нечего, я не определяю повода; опилки принимают ноги с готовностью, уютно, ожидая, скромно, без звука; в какую сторону я ни отклонялся бы, Кудасов следит за мной глазами и зубами, торчащими меж губами, губы, натянутые вдоль десен, одеревенели, посинели, а руки, наверное, отваливаются уже вовсе.
Читать дальше