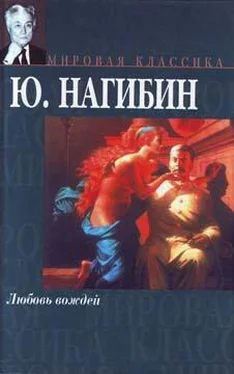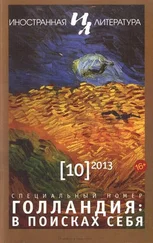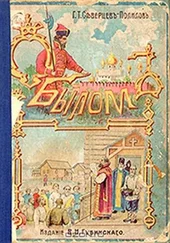Неблагодарная скотина, скажет иной, а то и каждый читатель, представив фантастическое застолье с морем разливанным и яствами невиданными: за шашлыком от поваров и холодным последовало жаркое: шашлыки карские и натуральные, цыплята табака, купаты, люля-кебаб, перепелки на вертеле, осетрина в белом вине, форель, не буду раздражать воображение читателей неимоверным десертом, тем более что до него еще далеко в моем рассказе, и вообще хватит описаний этих пантагрюэлевских гастрономических излишеств в пору карточного, талонного и паспортного питания. Впрочем, с общенародным столом и тогда обстояло неважно, а в провинции не лучше, чем сейчас.
А вот насчет неблагодарности — это зря. Очень даже благодарная скотина объедалась и опивалась под ветвями старых берез, в заплеске сиреневой струи в шашлычно-душную обвонь.
Главный писатель подсказал мне, что надо бы черкнуть пару слов в журнал, потому что при скромности и щепетильности секретаря он никогда не заикнется о тех комплиментах, которые я ему расточал. У меня еще хватило сознания смекнуть, что комплиментов особых я не делал, вообще не делал, хотя и сказал, что можно печатать. Но сейчас уже трудно было заводить склоку вокруг тех или иных формулировок, как-то неловко, неблагодарно, да и утомительно, когда в брюхе столько баранины, курятины и рыбы, а в сосудах — коньяка. Я только попросил его написать самому, на подпись у меня хватит сил. Я был похож на девицу, которая провела с кавалером ночь, но не позволяет поцеловать себя в ухо. Этот последний участок невинности она во что бы то ни стало хочет сохранить. Он не стал спорить, молча протянул мне блокнот и шариковую ручку. У меня и без того почерк куриный, а тут, налитый всклень, я выдал такую каллиграфию, что и сам оторопел.
— Ничего, ничего, — хладнокровно сказал Главный писатель. — Только распишитесь почетче. Для журнала мы отзыв перепечатаем, а документ оставим себе.
Меня резануло слово «документ», но тут я уловил такую смертную муку на лице секретаря, что захотелось быть щедрым. Я разорвал листок и аршинными, почти печатными буквами нацарапал то, чего от меня ждали, и лихо расписался.
И тут произошло чудо: одинокая высоченная до едва слышимости нота пронизала мироздание, стала осью всего сущего, к ней пристроилась другая нота, третья, и вот они уже стали оркестром, странным, отроду не слышанным мною оркестром, где каждая дудка держала лишь одну-единственную ноту. Боже мой, да это роговой оркестр — древнее, вымершее, забытое русское искусство. Оказывается, оно живо здесь, на этой сиреневой земле, и подарено мне!
Крупная слеза скатилась по моей монгольской скуле, упала на губу, я слизнул, у нее был коньячный вкус.
Боясь пьяной сентиментальности и не желая — чисто по-советски — перебрать по части благодарности, я облек свое искреннее, хотя и с глубоко запрятанной червоточиной признательное восхищение в форму банальной шутки:
— Если б покойный отец меня видел!..
Острым беспощадным лучом в бредовую муть сознания врезался истинный смысл этой расхожей фразы. В самом деле, что, если б меня увидел сейчас мой родной отец — «вечный студент», расстрелянный на берегу Красивой Мечи и утопленный для верности в той же тургеневской реке за сочувствие крестьянскому отчаянию, переросшему в то, что потом назвали «антоновщиной»?.. Что, если б меня увидел мой приемный отец — вечный узник, за последние четверть века своей жизни лишь шесть месяцев гулявший на свободе?.. Что, если б меня увидел мой отчим-писатель, которому тридцать седьмой год сломал душу и литературную судьбу?.. Уверен, что каждый из них от души плюнул бы мне в морду, мне, пирующему посреди полумертвой России — без отчаяния, надрыва и муки, хамски спокойного и безгрешного в стане победителей, которым ничего не страшно и не стыдно и от которых я принял причастие дьявола. Анна Ивановна, Анна Ивановна, грустная районная Мисюсь, где ты?..
Мне трудно рассказывать о том, что происходило дальше, ибо я не знаю, что принадлежит съехавшей с рельсов реальности и что — белой горячке. Кажется, меня спросили, каких еще мне хочется яств, прежде чем перейти к десерту, и я ответил словами сластолюбивого гоголевского попишки:
— Душа моя взыскует яств иных.
— Каких же?
— Гурий.
Они появились, и начался сон Ратмира. Витало что-то голубое и что-то розовое — из воздушных одежд и нежного тела — и несло в себе музыку; я никогда не видел гурий и плохо представляю, что это такое, поэтому мои видения были плоски и банальны, как кордебалет. Я пресытился бесформенными грезами, не воплотившимися ни в поцелуи, ни в ласки, довольно скоро я вернулся к полуяви с рощей, шашлычными запахами, с дискретными фигурами над горами еды, то растворяющимися в густом сине-зеленом режущем свете, залившем рощу, то обретающими грубую, пугающую вещественность безобразных карнавальных масок. А музыка превратилась в комариный гуд, и только это принадлежало неподдельной реальности — тучи комаров вились над пиром, но почему-то не кусались. И тут я увидел метелку из жемчужно-серых и черных страусовых перьев, она колыхалась перед глазами, овевала виски, касалась затылка. Нежное опахало защищало меня от комаров.
Читать дальше