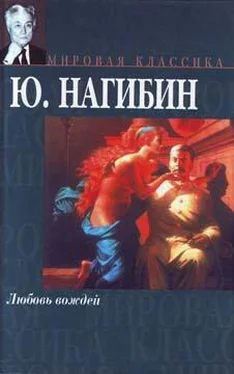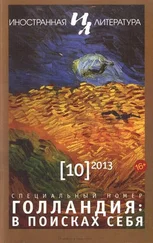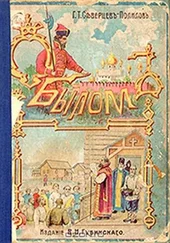А затем Сережа замолчал, и Анна Ивановна, не заметив, что ее бросили, продолжала петь маленьким старательным голоском:
Темнеет ночь, ужасный ветер воет,
Где медлишь ты, отрада бытия?
Кто стукнул в дверь — зачем так сердце ноет?
Когда б она, бесценная моя!..
— Анна Ивановна, что это? — заинтересованно спросил Сережа, когда она добрусила странную песню.
Она вздрогнула и вернулась из своей дали.
— Сама не знаю. Мама пела. Чушь какая-то.
— Вовсе не чушь. Что-то старое. По лексике — начало века. Влюбленный телеграфист, вечер, палисандр дачной гитары. Хорошо!..
Вот и совсем кончился этот долгий, без всяких событий и происшествий, без значительных слов и чувств, летний северный день, который — я уже знал тогда — навсегда останется в памяти.
— Прощайте, Анна Ивановна, — говорил Сережа, целуя доверчивое лицо женщины. — Прощай, дорогой Ванька-взводный!..
Я потом долго думал, почему Сережа воспользовался при расставании непривычным и не принятым в бытовой речи романсным словом «прощай!» вместо обычного «до свидания»? Неужели его вещая душа подсказала ему это слово?..
3
Прошло сколько-то лет, а для Сережи прошла жизнь, и я сделал нежданно-негаданно ослепительную, хотя, как вскоре выяснилось, мотыльково-краткую карьеру. Меня, не спрашивая согласия, назначили секретарем Московского отделения СП. Краткость же карьеры следует отнести за мой счет, я быстро разобрался, что к чему, и вернул себе утраченное достоинство.
Что произошло за минувшие годы? Из отдаления трудно сказать. Вроде бы ничего не произошло. Шла вялая и ужасная афганская война, где мы теряли не столько убитыми, ранеными и пленными, сколько морально разложившимися. И без того невеликий нравственный запас наших воинов стремительно расходовался в пьянстве, наркомании, кровавой алчности к трофейной технике и поощряемой жестокости; с исказившегося лица армии смывало честь, заслуженную ею в Отечественной войне. Все хуже становилось с продуктами и все лучше с бормотухой и водкой, производимой из отходов отходов. Для самых честных и смелых было три пути: в лагерь, в психушку, за кордон. Для честных, но робких один путь: в молчание. Для низких, бездарных и бесчестных путей было без счета, и все они вели к золотому дождю наград. Мы уже не стеснялись, что жирный косноязычный бездельник — глава партии, государства и армии — стал литературным корифеем, потеснив Достоевского и Толстого, что он оставляет за собой мокрое пятно, не узнает государственных деятелей, с которыми лезет целоваться, что дух народа вверен Кощею с белой пустотой за стеклами очков, что под видом диссидентов домолачивается интеллигенция — последнее, на чем оставался свет Божий, что лгать научились младенцы и покойники, что на безумном байкало-амурском строительстве доламывается молодая душа, не иссушенная афганцем, и спокойно ждали, когда поворот великих сибирских рек окончательно кончит страну.
Но жизнь шла, пили и гуляли, как в последний день, иные с крысиной суетливостью обделывали свои делишки, ухватывая кусок барского пирога, другие, как вороватые лакеи, уносили с пиршественного стола мировой культуры какое-нибудь запретное лакомство: книгу Набокова, стихотворение Бродского, песню Галича — и тайно наслаждались, а многие были вполне довольны по причине здорового кишечника, мощных половых желез и мускулов, просто от неведения, что существуют потребности, — безмятежное счастье мокриц, медуз, полипов. И пока таких большинство, диктатура может быть спокойна.
В разгаре этой фантасмагорической, но скучной полуяви-полусна меня направили в один из областных центров подстепной России провести семинар начинающих авторов, а затем — перевыборы правления местного Союза писателей.
Я довольно легко справился со своими обязанностями, ибо имел большой опыт работы с молодыми авторами, второе же поручение требовало лишь одного: спокойно подремывать в президиуме и не мешать. Но, поскольку в президиуме я сидел в первый раз (и в последний, как вскоре оказалось), мне все было в диковинку, и я поминутно лез не в свое дело. Меня мягко осаживали, я и сам твердил себе: поменьше рвения, но ничего не мог поделать со своей нездоровой заинтересованностью и порядком затянул рутинное мероприятие. Впрочем, народ тут был покладистый и снисходительно списал мне никому не нужную активность.
Больше пользы от меня было, наверное, на семинаре, где оказались обещающие ребята. Один парень уже напечатал несколько рассказов и шел как бы вне конкурса. Он носил смешную фамилию Петрушка, был отчетливо даровит и несколько разочарован слишком медленным продвижением к Олимпу. Надо было его взбодрить, обнадежить. Я и впрямь верил, что он пойдет в ход.
Читать дальше