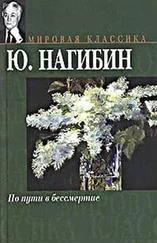Кравцов вышел к мосту через железную дорогу. Тут находилась какая-то товарная станция: пыхтели маневренные паровозики, двигая сцепы пустых и груженых товарных вагонов, предваряя каждое движение вперед-назад тонкими, хватающими за сердце гудками. И от этих гудков, дымно-гарного запаха и тепла, источаемого железнодорожным полотном, нахлынуло детство. То не было воспоминанием, то было самим детством, вступившим ему в худые лопатки, в задохнувшуюся грудь, в чуть онемевшие кончики пальцев. Он чувствовал свое детское тело и детскую тоску по матери — запах мазута и шлака всегда был предвестником разлуки.
Болезнь матери вернула ему природу, имена, какими назван цветущий и дышащий мир, детство и первозданность износившихся чувств. Он плохо и скупо прожил последние десятилетия своей жизни. Он не дал себе труда быть гениальным, лишь топтался в преддверии истины, не приближаясь к ней ни на шаг. Узкая профессионализация — конец настоящей науки. Понадобился могучий удар, выбивший с привычной орбиты, вернувший его к себе маленькому, к себе трепещущему, к себе обмирающему при виде мокрых путей или старого вяза, чтоб он исполнил свое жизненное назначение. Он сделал то главное открытие, какое многим первоклассным умам казалось невозможным, — открыл первопричину бытия, начало начал, нашел ответ на вопрос, мучающий и малого ребенка, и седого мудреца: откуда взялось все? И ответ пришел не в отвлеченности математических формул, а в самых простых, доступных любому смертному словах. Он был потрясен не столько самим открытием, сколько незамысловатостью и самоочевидностью того, что казалось тайной тайн. Ответ был у всех под рукой, и можно было лишь удивляться косности человеческого мышления, не способного отбросить привычные стереотипы.
Но разве мы понимаем, что древние египтяне жили в двухмерном мире, а древние греки не ведали понятия времени? Когда он обнародует свое открытие, человечество будет ошеломлено сильнее, чем атомным взрывом. Но уже люди следующего поколения будут иронически недоумевать, как это их предшественники умудрялись жить без понимания коренной сути бытия.
И если б не болезнь матери, не было бы никакого открытия. В страдании заключена и могучая творческая сила. Мать, заболев, пробудила в нем эту творческую силу. Она словно давно угадала проницательностью своей любви, что он никуда не движется, лишь симулирует — не преднамеренно — работу мысли. Воспитание на холоду при спорных преимуществах закалки несет в себе серьезную опасность вымерзания родников вдохновения и прозрения. Вот тогда мать совершила великое усилие любви во спасение сына.
И теперь, когда он был спасен для труда, творчества и мышления, она хотела жить. Неужели он не способен отплатить матери таким же великим усилием? Нельзя предоставлять ее собственным надорванным силам.
«Настал мой черед, — думал Кравцов, — вдвоем мы одолеем смерть. Надо лишь усилиться всей любовью, всей верой, всей необходимостью друг для друга и невозможностью друг без друга, всей памятью о прошлом, всем смыслом настоящего и, главное, будущего».
— Ты будешь жить, мама, — вслух, будто мать могла услышать, сказал он в волглый сумрак, скрывший рельсы, водокачки, составы.
Перейдя железнодорожный мост, Кравцов оглянулся. На малом всхолмье, над старыми вязами обрисовалась темная крыша больницы, и он повторил, как заклятие, как мольбу и как приказ:
— Ты будешь жить, мама…
Жена Кравцова проснулась среди ночи, охваченная странной тревогой. Мужа не было рядом. Она не стала зажигать света, сразу обнаружив у окна высокую худую фигуру. Последнее время его мучила бессонница, но снотворного он не признавал. Он был в своем стареньком байковом халате и неотрывно смотрел в темное окно. Ей почудилось, видимо со сна, что его голова источает слабое зеленоватое свечение. А воздух был озонирован, как после сильной грозы, хотя какая гроза могла быть посреди гнилой осени? Она вздохнула и закрыла глаза.
А Кравцов продолжал стоять у окна, усиливаясь против смерти…
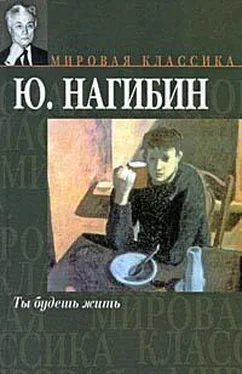


![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/128605/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya-thumb.webp)