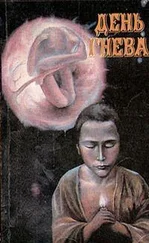И с этого же лежбища когда-то хорошо было видно Бухмину сквозь щель в крыше, как юная тётка его стоит за углом дома с женихом своим Павлом, тоже − Родиным, потому что фамилию эту носило полсела. Если бы тихонько присвистнул Бухмин сверху, то перепугал бы тётку до смерти. Вот бы отпрянула она от жениха, вот бы кинулась в дом со всех ног! Мыслимое ли дело − стоять хорошей девице с парнем на виду? Но не свистит Бухмин, хоть и очень хочется. Только наблюдает, как торопливо шепчутся они, поглядывая по сторонам, договариваясь встретиться в синих сумерках, как на прощанье касается он с осторожностью молодых волос её − тяжёлых, сияющих под солнцем свежо и пшенично. Всё-то она просила присмотреть ей крупный гребень, потому как обычные гребёнки не удерживали литых, длинных кос её на затылке. И Павел обещал достать хоть из-под земли − необыкновенный: черепаховый. В Семипалатинских магазинах, заваленных товарами, бывают такие, он знает. И она улыбалась ему благодарно − заранее.
* * *
Тарахтит полуторка, взбираясь на пригорок, чихает сизой гарью, дёргается. Но зато под гору мчится резво, набирая скорость… Вот уж видна Бухмину, летящему в ветер, стайка серебристых тополей, под одним из которых ударила его по лицу угрюмая девочка Марья… Отвергнутый тот поцелуй больно вспоминался ему, плачущему на чердаке, за каменной шершавой трубою, и не забывался никак. Внезапная горячая оплеуха горела на мальчишеской щеке, не угасая, до тех самых пор, пока не приноровился он рифмовать самые горькие слова со словами красивыми в одной толстой общей тетради. Она и сейчас, наверно, лежит за трубою, в укромном месте, заложенная на последней исписанной странице простым карандашом, искусанным с конца изрядно…
Унылый, грохочущий, грязный ад войны был пройден Бухминым из края в край − безропотно, обречённо, терпеливо, − чтобы вернуться на тот чердак обязательно и чтобы жить в своём доме вечно. А когда завершится земная мирная вечность, лечь в рыхлую, сухую землю, рядом с могилами милых родителей и двух старших братьев, незнакомых, умерших ещё младенцами давным-давно. И вот уж он, последний дорожный поворот, от которого − только ложбину перейти да лужок. И торопливо колотит Бухмин кулаком по кабине:
− Стой! Вон, тётка меня встречает… Стой!..
И кричит он мальчишке-шофёру, перемахнув через деревянный борт кузова со своим вещмешком:
− Счастливо тебе, браток. Победили!
И слышит из-под сломанного козырька солидное, казачье, надменное:
− А то!
* * *
Белёсая земля толкнулась в подошвы солдатских его сапог: победа! Но отчего-то высунулась на миг из великого, расцветшего на крови, завоеванного слова − змеиная голова другого: беда… Недвижно стоит на обочине тётка Родина в длинном мужском пиджаке с закатанными руками, и не кидается ему на шею, а только глядит, словно спит с открытыми глазами, сжимая что-то тяжёлое в правом кармане.
Бухмин прижимает её, безучастную, к себе, целует наскоро в тёплую косынку, отстраняется от исхудавшего, потемневшего лица её:
− Ну, как вы тут? Говори!
Озабоченно сводит тонкие брови тётка Родина, припоминает, припоминает что-то важное − и молчит.
−…А Шарик-то у нас ведь с ума сошёл! − расстроившись вдруг, всплёскивает она руками, и уходит к селу торопливо, по узкой тропе − через ложбину, и сокрушается на ходу, и качает головой: − Такой хороший пёс был! Такой умный!.. Теперь ненормальный.
Бухмин, закинув вещмешок за спину, едва поспевает за нею, обходящей мелкую весёлую лужицу с плавающим солнцем. И всё умиляет его: тёткина быстрая поступь, брезентовые её тапочки, ситцевая юбчонка в мелких выгоревших цветах, знакомая, довоенная. Но особенно − пшеничная тяжёлая коса, выбившаяся из-под косынки. Болтается она, неприбранная, свешивается ниже пояса. А вместо ленты иль узорной тесьмы вплетена в тёткины волосы грубая бечёвка, отрезанная от катушки шпагата и завязан-ная понизу на суровый узел. Но у него, Бухмина, лежит в вещмешке полукруглый гребёнь из самой поверженной страны Германии. Крепкий гребень, высокий, с вишнёвыми прозрачными переливами, с тремя тёмными тусклыми камушками в резных узорах; что твоя корона… Ещё немного, совсем немного − и выкинет серую верёвку из косы его милая тётка Родина. Поднимет она пшеничные тяжёлые волосы, заколет их чужеземным, завоёванным гребнем − станет императрица императрицей над всеми странами, освобождёнными советской армией!
Скоро, улыбается Бухмин. Осталось порог дома перешагнуть. Победа, победа, это − она…
Читать дальше