— Наверное, многие пары через такое проходят — она просто так вдруг озлобилась, понимаешь? Такая скрытная стала. Вот честно, ну никак я не мог с ней жить больше, хотя видит бог, такого она не заслуживала…
Это уж точно, подумал я.
— Потому что, знаешь, в чем на самом-то деле была проблема? — спросил отец, облокотившись на дверной косяк и пристально глядя на меня. — Почему я ушел-то? Хотел снять денег с нашего счета, заплатить налоги, а она мне хлоп по пальцам, будто я своровать эти деньги собрался. — Он глядел на меня очень внимательно, высматривал, как я среагирую. — Это с совместного-то нашего счета. Жизнь меня, значит, приперла к стенке, а она мне не доверяет. Не доверяет собственному мужу.
Я не знал, что отвечать. Про налоги я в первый раз слышал, хотя то, что мама в денежных вопросах отцу не доверяла, не было для меня откровением.
— И вот до чего же она была злопамятной, господи! — продолжил он, полушутливо мне подмигнув, проведя рукой по лицу, — Око за око. Вечно надо ей было сравнять счет. Потому что, блин, никогда она ничего не забывала. Двадцать лет ждать будет, а все равно с тобой посчитается. И, конечно, всегда все выглядело так, будто я во всем виноват, может, я, конечно, и был виноват…
Картина, хоть и маленькая, становилась все тяжелее и тяжелее, и я стоял с совершенно застывшим лицом, изо всех сил пытаясь скрыть, как мне неудобно. Чтобы вытеснить голос отца, я принялся считать по-испански: Uno dos très, cuatro cinco seis …
Когда я добрался до двадцати девяти, появилась Ксандра.
— Ларри, — сказала она, — а у вас с женой тут неплохая была квартирка.
Она это так сказала, что мне ее даже жаль стало, хоть не то чтоб от этого она мне стала больше нравиться.
Отец обхватил ее рукой за талию и как-то так примял ее к себе, что меня от этого движения чуть не вывернуло.
— Ну, — скромно ответил он, — вообще это больше ее квартира, чем моя.
Это ты верно подметил , подумал я.
— Идем-ка сюда, — сказал отец, беря ее за руку и увлекая в сторону маминой комнаты, разом позабыв про меня. — Я тебе покажу кое-что.
Я смотрел, как они уходят, — меня мутило от одной мысли о том, что отец с Ксандрой будут лапать мамины вещи, но так обрадовался, что они ушли, что было, в общем, наплевать.
Приглядывая за открытой дверью, я обошел кровать и спрятал картину за ней, подальше от двери. На полу валялся старый выпуск «Нью-Йорк Пост» — газету она сюда закинула в нашу с ней последнюю субботу . Давай-ка, малыш , сказала она, просунув голову в дверь, выбирай кино.
В прокате шли несколько фильмов, которые могли бы нам понравиться, но я выбрал утренний сеанс на ретроспективе фильмов Бориса Карлоффа: показывали «Похитителей тел». Она и слова против не сказала, и мы пошли в «Фильм-Форум», посмотрели кино, а потом отправились в «Мундэнс Дайнер» и съели по гамбургеру — прекраснейший субботний вечер, вот только он стал ее последним субботним вечером на земле, и теперь, стоило мне о нем вспомнить, делалось ужасно мерзко, потому что последним в ее жизни фильмом стал убогий старый ужастик про трупы и грабеж могил (а все благодаря мне). (А если бы я выбрал фильм, который она хотела посмотреть — тот, про парижских детей в Первую мировую, на который были такие хорошие отзывы, — вдруг тогда бы она выжила? Такие вот мрачные суеверные мысли меня часто мучили.)
Хоть газета и казалась мне святыней, историческим документом, я развернул ее и разобрал на отдельные развороты. Угрюмо завернул в них картину — лист за листом — и заклеил тем же скотчем, которым несколько месяцев назад заклеивал рождественский подарок маме. Лучше и не придумаешь ! сказала она, нагнувшись — в банном халате, посреди ошметков цветной бумаги, — чтобы поцеловать меня: я подарил ей набор акварельных красок, которые она никогда не возьмет с собой в парк летним субботним утром, которого она никогда не увидит.
Мне всегда казалось: чтобы припрятать что-то, в мире нет надежнее места, чем моя кровать — матрас на солидном казарменного вида латунном каркасе с блошиного рынка. Но вот я огляделся (видавший виды письменный стол, постер к японскому фильму о Годзилле, кружка из зоопарка в виде пингвина, куда я ставил карандаши), и меня так и накрыло осознанием того, до чего же это все непостоянно, аж голова закружилась, стоило представить, как все эти вещи разлетаются из нашей квартиры — мебель, серебро и вся мамина одежда: платья с распродаж, с неснятыми еще ярлычками, все-все разноцветные балетки и приталенные сорочки с ее инициалами на манжетах. Стулья и китайские светильники, старые джазовые записи на виниле, которые она покупала в Виллидж, баночки с джемом, оливками и едкой немецкой горчицей в холодильнике. Мешанина ароматических масел и увлажняющих средств в ванной, цветная пена для купания, наполовину опустошенные бутылочки дико дорогих шампуней, сгрудившихся на бортике ванной («Киле», «Клоран», «Керастаз» — мама всегда пользовалась пятью или шестью попеременно). Как может дом казаться таким незыблемым, таким устойчивым, когда это — всего-навсего театральные декорации, которые стоят только до тех пор, пока их не разберут и не унесут грузчики?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








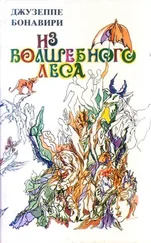

![Донна Тартт - Тайная история [litres]](/books/429700/donna-tartt-tajnaya-istoriya-litres-thumb.webp)

