— Как ее звали?
— Палитра.
Я обожал, когда мама принималась рассказывать, какие у них были конюшни в Канзасе: на стропилах мостятся совы и летучие мыши, лошади ржут и сопят. Я знал клички всех лошадей и собак, которые у нее были в детстве.
— Палитра! Так она, что, была вся разноцветная?
— Ну такая, да, пятнистая. Я фотографии видел. Иногда, летом, она и к ней приходила, когда мама спала после обеда. Она слышала, как лошадь дышит, прямо в занавески.
— Как мило! Я люблю лошадей. Просто…
— Что?
— Я тут хочу остаться, — мгновение — и она чуть не плачет. — Не понимаю, зачем надо уезжать.
— Так скажи им, что хочешь остаться.
Когда это наши руки соприкоснулись? И отчего у нее такие горячие пальцы?
— Я и сказала! Но все думают, что там мне будет лучше.
— Почему?
— Не знаю, — раздраженно ответила она. — Говорят, там потише. Но я не люблю, когда тихо, мне нравится, когда много всяких звуков.
— Меня, наверное, тоже увезут.
Она подтянулась на локте.
— Нет! — встревоженно выпалила она. — Когда?
— Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой.
— А-а, — грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки. — А у меня нет бабушки с дедушкой.
Я оплел ее пальцы своими.
— Мои не слишком-то симпатичные.
— Прости.
— Да ничего, — ответил я самым нормальным тоном, на какой был только способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой.
— А других родственников у тебя нет? — В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными.
— Нет. Ну, то есть… — Отца считать? — Нет.
Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками: один у нее в ухе, второй — у меня. Пение ракушек. Жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это — размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю.
— Как ты говорила, зовут композитора? — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то.
Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике.
— Палестрина, — ответила она с торчащей изо рта палочкой. — «Торжественная месса». Или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи.
— А она тебе нравится? — спросил я. — Твоя тетка?
Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала:
— Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это неклассно.
— А зачем? Зачем тебе уезжать?
— Там в деньгах дело. Хоби ничего не может поделать, он мне не настоящий дядя. Мой как-будто-дядя, как она его зовет.
— Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей, — сказал я. — Я хочу, чтоб ты осталась здесь.
Внезапно она села, обвила меня руками и поцеловала; разом вся кровь отхлынула у меня от головы, одной мощной волной — я будто с утеса рухнул.
— Я…
Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам — вытереть их, только на губах не было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони.
— Не хочу, чтоб ты уезжала.
— И я не хочу.
— Ты меня видела, помнишь?
— Когда?
— Сразу перед тем как.
— Не помню.
— Я тебя помню, — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть ли не сел на него. — Я там был.
И тут я понял, что Хоби стоит в дверях.
— Привет, лапушка, — и хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. — Говорил же, он еще придет.
— Говорил! — сказала она, подтянувшись повыше. — Он пришел.
— Ну, будешь меня в следующий раз слушать?
— Я тебя слушала! Просто не верила.
Кончик тюлевой занавески прошуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории: дождливый свет, сидящая на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хоби, и ее поцелуй (с чудным привкусом леденца — он, как я теперь думаю, был с морфином), который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова, не от него я был весь улыбчиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане, мы с ней распрощались (писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла), и вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хоби утешительно кладет руку мне на плечо — сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь, чтобы я понял — все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался — по-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь, и я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови, рванулась верность, внезапное, унизительное, защипавшее глаза убеждение, что это хорошее место, это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








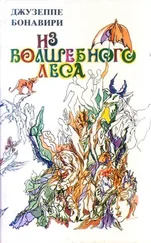

![Донна Тартт - Тайная история [litres]](/books/429700/donna-tartt-tajnaya-istoriya-litres-thumb.webp)

