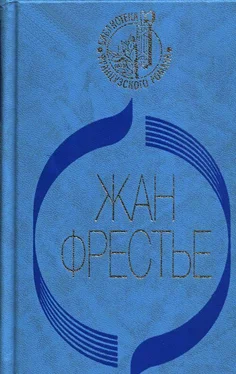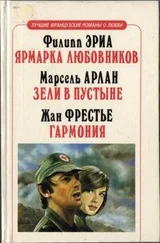— Ты вернешься?
— Ну конечно вернусь.
Я возвратился в Париж. Проехал по тем кварталам, где прежде часто бывал с Ирэн. Я узнавал перекрестки, на которых мы прощались друг с другом до следующего вечера, и эти воспоминания о временных расставаниях усугубляли ощущение непоправимого отсутствия. Следовало бы, вопреки правилу, прощаться всегда в одном и том же месте, тем самым ограничивая арену расставаний. Однако человек редко по-настоящему задумывается о будущем.
Мне хотелось возвращаться к Марине каждый вечер просто потому, что за сегодняшним днем наступает завтрашний и изо дня в день иллюзия возрождается. И еще потому, что, несмотря ни на что, радости, которые мы не испытывали вместе, нас объединяли. Один давал, другой получал. Марина, будучи безучастной в моменты близости, воспринимала наслаждение через меня и любила его так, что я видел в ее лице — наверное, более чистом, чем когда-либо, — то отображение самого себя, которое мужчина обычно пытается найти в лицах женщин.
Марина жила одна, изо дня в день рассчитывая только на собственные силы. Она любила свой дом, подобно тому как осажденный отряд любит свою крепость. Живя одна, она должна была укрыться, спрятаться в нем. Она, разумеется, защищалась от одиночества, развешивая тут и там гравюры, расставляя на камине в кухне разные горшочки: соль, перец, пряности, купленные ею в магазине Призюник. По утрам, если я оказывался рядом, то видел, как она, встав пораньше и надев на голову платок, то и дело смахивает перьевой метелочкой невидимую пыль. Затем она прерывала работу, оборачивалась ко мне. Метелка падала на пол и оставалась лежать — такая смешная, с рукояткой, как у плетки, и разукрашенная, словно индейский вождь. Марина расслаблялась рядом со мной. Она выпускала из рук все, что прежде прижимала к себе, ища защиты. Мебель, вышитые скатерти, гравюры переставали быть броней и вновь становились предметами комфорта или удовольствия. Марина отдавала их мне, как, впрочем, и свое тело.
— Как тебе кажется, будет лучше поставить буфет точно в середине панно или чуть правее, а рядом — стул?
На подобный вопрос мне нельзя было отвечать неопределенно. Мое мнение, должно быть, имело силу закона. Именно этого ожидала Марина. Я поддерживал эту игру больше с показной, чем с истинной убежденностью. И все же в некоторые вечера мне начинало казаться, что здесь я у себя дома и что я окружен предметами, спокойно стоящими на тех местах, что указал им я. Я ездил в Сен-Клу почти каждый вечер.
Было 14 июля. Я повез Марину показать ей салют с Монмартра. Она вцепилась в мою руку. «Как это красиво, дорогой мой, — говорила она мне. — Как я с тобой счастлива!»
А на следующий день, словно в продолжение праздника, по залитым солнцем пустынным улицам разъезжали автобусы с двумя флажками над ветровым стеклом, похожие на толстых пьяных новобранцев. Город, понемногу становившийся безлюдным, обретал сходство с деревней. Он суетился около вокзалов, чтобы заставить поверить, что уезжает. В мечтах он уезжал на отдых.
Иногда я спал у Марины. А в те вечера, когда у нее не оставался, шел к Карлу. Он намеревался присоединиться к своему семейству в Бретани. Мы, разумеется, собирались ехать вместе. Хотя я и поддерживал этот план, но не очень-то в него верил. Мне было необходимо оставить все пути открытыми. Главное — не выбирать. Поезда люкс, в которых путешествовала Ирэн, больше не шли в мою сторону. Я превратился в сортировочную станцию: вагоны медленно катились в обе стороны, мягко выполняя свою призрачную работу; время от времени слышался удар наковальни над пустынным пейзажем, а поезд, несмотря ни на что, готовился к отправлению.
Я отвечал на письма Даниэль. Я говорил Карлу, что поеду в отпуск вместе с ним. И чувствовал, что он мне не верит. Он смущался, начиная рассказывать о недавно изученных им растениях. Теперь он стал предписывать своим больным только травяные настои.
Я возвращался к себе. В этот час воспоминания об Ирэн были особенно мучительными. Из гаража домой я шел пешком. И часто встречал Лакоста. Он рыскал возле станции метро. Поняв, что его узнали, он пришвартовывал свое ожидание к какой-нибудь еще освещенной витрине. Свет превращал его в холодного красавца, делая щеки впалыми, глаза неподвижными. Я обходил его сзади, притворяясь, что не заметил. Его взволнованное лицо представлялось мне иллюстрацией той горечи, что я чувствовал в самом себе. Я думал об Ирэн, о всех несостоявшихся свиданиях, о тех наивных предлогах, что она мне сообщала, о всей той лжи, на которую я в спешке ставил официальную печать, боясь, как бы она не передумала и не бросила мне в лицо правду, еще более тягостную, чем ложь. Я принимал ее оправдания, но в темной комнатенке души моей работал частный детектив, менее доверчивый, чем официальная полиция. Он сравнивал ложные оправдания с истинными. Ему не всегда удавалось найти для меня те доказательства, которые я от него требовал, но одного его присутствия уже было довольно для того, чтобы осудить Ирэн. Он словно бы говорил: «Верьте мне. Я здесь неспроста. В такого рода делах сомнение — лишь первая предпосылка уверенности».
Читать дальше