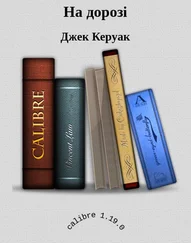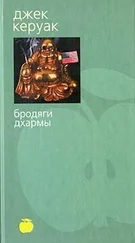Между тем целые банды мексиканских хипстеров толкутся вокруг, большинство в усах, все на мели, довольно многие – итальянцы и кубинцы. Некоторые даже пишут стихи, как я выяснил позже, и у них свои установившиеся отношения Учителя – Ученика совсем как в Америке или в Лондоне: видишь как главный кошак в пальто растолковывает какую-нибудь закавыку в истории или философии а остальные слушают покуривая. Для того чтобы покурить дури они заходят в комнаты и сидят до зари недоумевая чего это им не спится. Но в отличие от американских хипстеров всем утром на работу. Все они воры но крадут кажется только диковинные предметы поразившие их воображение в отличие от профессиональных грабителей и карманников кои тоже тусуются вокруг Редондас. Это ужасная улица, улица тошноты, на самом деле. От духовой музыки дующей отовсюду она почему-то еще ужаснее. Несмотря на тот факт что единственное определение «хипстера» заключается в том что это человек который может стоять на особых перекрестках в любом иностранном большом городе мира и подогреваться дурью или мусором не зная языка, от всего от этого хочется обратно в Америку пред светлые очи Гарри Трумена.
Как раз то чего Рафаэлю уже до колик хотелось сделать, изболелся больше любого из нас.
– Ох господи, – причитал он, – это как грязная старая тряпка которой кто-то наконец подтер харчки в мужском сортире! Да я полечу обратно в Нью-Йорк, плевать на это! Все, иду в центр снимаю себе богатый номер в отеле и жду своих денег! Не собираюсь я всю жизнь изучать гарбанцы [118]в помойных баках! Я хочу замок со рвом, бархатный капюшон себе на Леонардовую голову. Хочу свое старое кресло-качалку как у Бенджамина Франклина! Бархатных штор хочу я! Хочу звонить дворецкому! Лунный свет у себя в волосах! Хочу Шелли с Чаттертоном у себя в кресле!
Мы снова сидели в квартире слушая все это пока он собирал вещи. Пока мы бродили по улицам он вернулся и проболтал с бедным старым Быком всю ночь к тому же отведал морфия («Рафаэль самый смышленый из всех вас», сказал Старый Бык на следующее утро, довольный). Между тем Лазарь оставался дома один бог знает чем занимаясь, слушая, вероятно, таращась и слушая в комнате. Один взгляд на бедного пацаненка пойманного этим сумасшедшим грязным миром и начинаете волноваться что же случится со всеми нами, всеми, всеми брошенными псам вечности в конце —
– Я хочу сдохнуть смертью получше чем вот так, – продолжал Рафаэль пока мы внимательно слушали. – Почему я не на хорах в старой церкви в России не сочиняю гимны на органах ! Почему я должен быть мальчиком у бакалейщика! Противно! – Он произнес это по-нью-йоркски почти пуотивно. – Я не сбился с пути! Я получу то чего мне хочется! Когда я ссался в постель когда был маленьким и пытался прятать от матери простыни то знал что все это будет противно. Простыни вывалились на противную улицу! Я смотрел на свои бедные простыни далеко внизу как они облепили пожарную колонку! – Мы все уже ржали. Он разогревался к своей вечерней поэме. – Я хочу мавританских потолков и ростбифов! Мы даже не пожрали ни в одном прикольном ресторане как приехали сюда! Почему нам нельзя даже пойти позвонить в колокола Собора в Полночь!
– Ладно, – говорит Ирвин, – пошли завтра в Собор на Сокало и попросимся позвонить в колокола.
(Что они и сделали, на следующий день, втроем, им разрешил уборщик и они похватали здоровенные канаты и качались и вызванивали громкие звонкие зонги которые я вероятно слышал на своей крыше пока в одиночестве читал Алмазную Сутру на солнышке – но меня там не было и что в точности еще случилось я не знаю.)
Вот Рафаэль начинает писать стих, он вдруг перестал болтать когда Ирвин зажег свечу и пока мы все сидим расслабившись в низких тонах можно услышать сумасшедшее шебуршанье карандаша Рафаэля спешащего по странице. Можно и впрямь услышать стихотворение в первый и последний раз на свете. Царапанья карандаша звучат в точности как Рафаэлевы вопленья, с тем же самым укоризненным ритмом и напыщенными раскатами жалоб. Но в шебуршистом царапанье вы также слышите некое чудесное претворенье слов в английскую речь из головы итальянца который в своем Нижнем Ист-Сайде и по-английски-то не разговаривал пока ему семь не стукнуло. У него великолепный медоточивый ум, глубокий, с поразительными образами которые для всех нас словно ежедневный шок когда он читает нам свое ежедневное стихотворение. Например, прошлой ночью он почитал историю цивилизации Г. Дж. Уэллса и сразу же сел со всеми именами потока истории в голове и восхитительно нанизал их; что-то про парфян и скифские лапы заставляющие тебя осязать историю, с лапищей с когтищем со всеми делами, а не просто понимать ее. Когда он выкорябывал свои стихи в нашем огарочном молчании никто из нас и рта не раскрывал. Я осознал что за дуровая мы команда, под дуровой я имею в виду таких невинных по части того как это говорится властями что жизнь прожить нужно так. Пятеро взрослых мужиков-американцев и шебуршание в тишине при свечке. Но когда он заканчивал я бывало произносил
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу