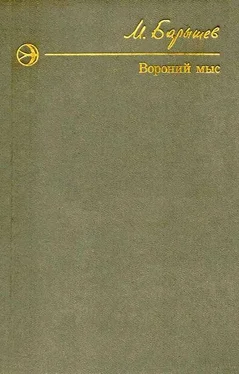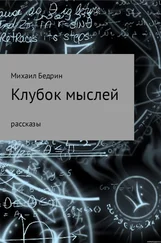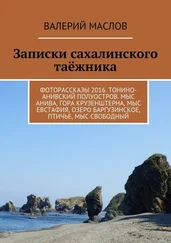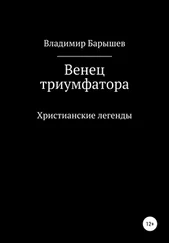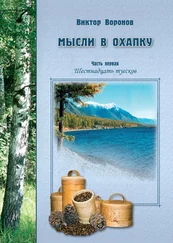— Ишь как уходился, — незнакомым добрым голосом сказала тетка и кинула на лавку полушубок. — В такую даль мальца посылать! Эх, Марея, неразумная твоя голова.
Я не стал объяснять, почему мама сама не могла прийти в Мшагу. Едва добрался до полушубка.
Проснулся я вечером. На столе фырчал самовар. Тетка шумно пила кипяток с цветистого блюдечка, прикусывая густо посоленную горбушку.
— Зачем припожаловал!
Я ответил, что пришел достать картошки на семена.
— А своя семенная где? Неужель съели? — тетка осуждающе качнула головой. — Нос Марея дерет, а семенную картошку не могла сберечь. Да мне легче в гроб лечь, чем семена тронуть… За отцовой спиной жила, будто кот в запечье, а довелось одной, все как по чертовым головам покатилось…
Чабиха принялась занудливо выговаривать про маму. С хлюпаньем, оттопыривая губы, обмахивала концом платка лицо и выговаривала. Я слушал, и больше всего мне хотелось крикнуть тетке все, что я про нее думаю, и хлопнуть дверью.
Но картошку на семена надо было добыть, поэтому я терпел. Чтобы легче было слушать Чабихины надоедливые нотации, я представлял, что командую гаубицей. Гитлеровские танки идут в атаку… Десять штук с фашистскими крестами, ползут прямо на батарею. Я заряжаю тяжелый снаряд и с первого же выстрела в лепешку разбиваю передний танк с главным ихним командиром, потом второй, третий… Танки удирают, а я их колошмачу вдогонку один за другим…
— Уж не знаю как, — выговорившись всласть, заявила тетка. — Спущусь завтра в подпол… Взаймы, что ли, приспосабливаетесь?
— У меня деньги есть, — заявил я, расшпилил булавку на кармане и вытащил теплые разноцветные бумажки. — Вот, сто рублей.
— Ишь какие капиталы приволок, — усмехнулась Чабиха и подставила чашку под краник самовара. — По нонешним временам за сто рублей и ведра не сторгуешь, а уж на семена и подавно… Давай деньги!
Я отдал Чабихе деньги и спросил, когда она насыплет картошки.
— Сказано — завтра, — ответила тетка и придвинула мне налитую чашку. — Хлебни вот горяченького, скорее от дороги отойдешь… Завтра насыплю.
— Мне домой надо.
— Ничего, не усохнет твоя родительница, — ворчливо сказала тетка, пошла к полке, побренчала там какими-то банками и положила передо мной крохотный обмусоленный кусочек сахара. — Поживешь у меня день.
И негромко пожаловалась:
— Тошнехонько мне, Паша, одной. В избе, как в овине. Слова ведь не с кем сказать. Погости, паренек, я хоть сердцем немного развеселюсь… Ты кусай сахар-то.
Она подошла ко мне и погладила по голове жесткой тяжелой рукой.
Утром меня разбудило солнце, круто упав из окна на широкую лавку. Тетка погрохатывала чугунками, с хрустом ломала через колено пригоршни хвороста и совала их в сводчатый зев печки, где полыхал красными лоскутами жаркий огонь.
— Скотину уж проводила и огород докопала, а ты все спишь, — неодобрительно сказала Чабиха. — Ведра вон возьми, воды в кадушку наносишь.
Я наносил воды, умылся на крыльце под гремучим умывальником, позавтракал печеной картошкой с простоквашей и спросил тетку о своем деле.
— Чего ты мне сто раз долдонишь, — рассердилась Чабиха. — Сказано ведь все… Будто у меня других забот нет.
Я понял, что придется остаться в Мшаге. У тетки характер такой, что разозлится — и выпроводит с пустыми руками, долго разговаривать не будет. Но если завтра она мне не даст картошку, я заберу деньги и уйду домой. За нос себя не дам водить, не таковский.
— Погуляй пока, на реку сбегай, — сказала тетка. — Может, окуньков наловишь. Удочка у меня в сохранности, в сенцах стоит, а червей возле хлева копай хоть мешок. Не забыл еще дорогу на дрема?
Нет, я не забыл извилистую в один след тропинку, которая вилась вдоль мшагинских огородов, пересекала березняк и шла краем ельника по берегу реки до глубоких лесных омутов. Их здесь называли «дремы». В половодье тихая Мшага хмелела водой, люто крутила воронки, подмывала берега, валила в реку сосны, кусты шиповника и, проглотив добычу, стихала до следующей весны. В темных омутах на дремах среди коряг жировали язи, темноперые окуни, плотва и остромордые щуки.
Перед войной папа меня летом часто брал в Мшагу на рыбалку. Он работал мотористом на лесозаводе, и его руки пахли машинным маслом. Удочку он всегда закидывал со смешной присказкой: «Окунь сорвись, карась навернись», и плевал на насадку.
Здесь, на дремах, я семилетним карапузом выловил первого окунька. Смешно вспомнить: удочку сдуру так рванул, что окунь аж о сосну трахнулся, соскочил с крючка и улетел в ивняки. Папа их облазил вдоль и поперек, но все-таки нашел окунька. Потом мне говорил, что это, мол, особенный окунь. Такого, мол, окуня человек один раз в жизни ловит. Заливал мне, желторотому… Ничего особенного в том окуньке не было. Окунь как окунь: рот, плавники и хвост. Только что первый…
Читать дальше