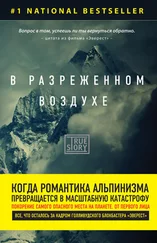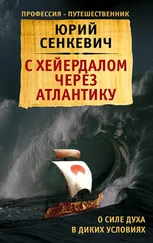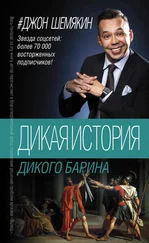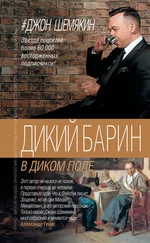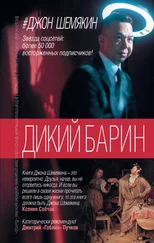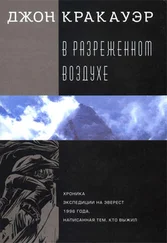Никогда доселе я не испытывал такой высочайшей радости от движения. Тонкие вершины деревьев со свистом плясали в необузданных потоках воздуха, гнулись и метались туда и обратно, кружили снова и снова, чертя неописуемые комбинации вертикальных и горизонтальных кривых, а я напряжением всех мышц льнул к стволу, словно маленькая птичка к тростниковому стеблю.
В тот момент ему было тридцать шесть лет от роду. Можно догадаться, что Мьюр не счел бы Маккэндлесса чересчур странным или непонятным человеком.
Даже степенный и чопорный Торо, прославившийся своим заявлением, что он достаточно напутешествовался, хорошенько поездив по Конкорду, поддался соблазну посетить жутковатую глушь штата Мэн девятнадцатого столетия, а также взобраться на гору Катадин. Восхождение на «дикие и ужасные, но, тем не менее, прекрасные» склоны этого пика шокировало и напугало его, но, вместе с тем, и наполнило головокружительным благоговением. Волнение, которое он испытал на гранитных высотах Катадин, вдохновило его на написание самых сильных текстов и коренным образом изменило его отношение к земле в ее исходном, неприрученном состоянии.
В отличие от Мьюра и Торо, Маккэндлесс ушел в глушь в основном не для того, чтобы поразмыслить о природе окружающего его большого мира, а, скорее, для того, чтобы исследовать внутреннее пространство своей собственной души. Тем не менее, в самом скором времени он пришел к открытию, которое до него уже сделали и Мьюр, и Торо: длительное пребывание в условиях дикой природы неизбежно направляет внимание человека не столько вовнутрь его существа, сколько вовне, а жить только тем, что может дать земля, невозможно, не добившись от себя загодя, одновременно и досконального понимания, и мощной эмоциональной связи с землей и всеми ее богатствами.
Дневниковые записи Маккэндлесса почти не содержат размышлений о дикой природе или, если уж на то пошло, и размышлений вообще. Он даже почти не упоминает окружающих его пейзажей. И правда, как отметил друг Романа Эндрю Лиске по прочтении ксерокопии дневника: «Записи тут практически только о том, чего ему удалось съесть. Кроме еды, он больше почти ни о чем не пишет».
Эндрю не преувеличивает, больше всего дневник Маккэндлесса похож на реестр съедобных растений и убитых животных. Однако было бы ошибкой делать вывод, что Маккэндлесс не обращал внимания на окружающие его красоты, что его не трогали величественные пейзажи. Как заметил профессор по экологии человека Пол Шепард:
Бедуин-кочевник не зацикливается на видах природы, не пишет пейзажей маслом, не создает сводов неутилитарной естественной истории… Его жизнь настолько глубоко пересекается с природой, что в ней нет места для абстракций, эстетики или «натурфилософии», способных быть от нее отделенной… Традиции, обилие тайн и опасностей говорят ему, что природа и его взаимоотношения с ней – это дело предельно серьезное. В моменты досуга он избегает пустых развлечений или отстраненного манипулирования природными процессами. Но в саму его жизнь встроено ощущение постоянного присутствия природы, земли, непредсказуемости погоды, той узкой грани, на которой балансирует его существование.
Многое из этого можно сказать и о Маккэндлессе в месяцы его пребывания на берегах речки Сушаны.
Было бы легче всего представить Кристофера Маккэндлесса еще одним слишком чувственным мальчишкой, полоумным юнцом, начитавшимся книжек и растерявшим все остатки здравомыслия. Но подходит к нему этот стереотип не очень хорошо. Маккэндлесс вовсе не был никчемным бездельником, бессмысленно дрейфующим по течению жизни в муках экзистенциального отчаяния. Наоборот, его жизнь была заряжена смыслом и полна целей. Но смысл, который он отвоевывал у своего существования, лежал далеко за пределами зоны комфорта: Маккэндлесс не верил в ценность того, что доставалось ему без труда. Он постоянно требовал от себя большего и, в конце концов, не смог выполнить свои собственные запросы.
В попытках объяснить необычное поведение Маккэндлесса некоторые люди упирали на тот факт, что он, подобно Джону Уотерману, был человеком небольшого роста и страдал от «комплекса коротышки», то есть фундаментального психологического комплекса, заставлявшего его подвергать себя экстремальным физическим испытаниям, чтобы доказать собственную мужественность. Другие предполагали, что на гибельную одиссею его подтолкнул неразрешенный эдипов комплекс. Несмотря на то что в обеих гипотезах вполне может присутствовать доля правды, заочный посмертный психоанализ такого толка – это предприятие в высшей степени спорное и сомнительное, неизбежно принижающее и тривиализирующее проблемы отсутствующего пациента. Совсем не факт, что, низводя суть странных духовных поисков Маккэндлесса до списка удачно подобранных психологических расстройств, мы сможем узнать о нем что-то более или менее ценное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
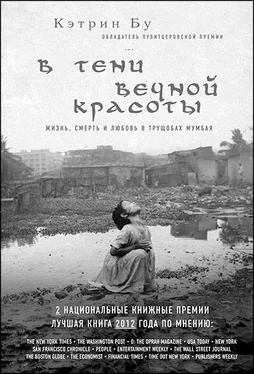
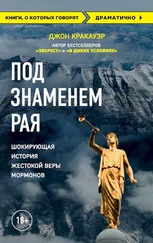
![Джон Шемякин - Дикий барин в домашних условиях [сборник]](/books/27832/dzhon-shemyakin-dikij-barin-v-domashnih-usloviyah-sbor-thumb.webp)