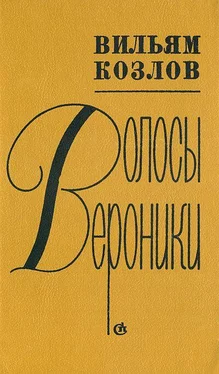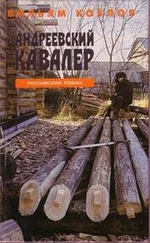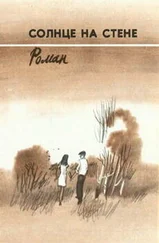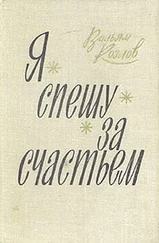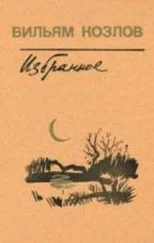В ту ночь я любил ее, как никого. Даже с Олей Журавлевой мне никогда не было так хорошо, как с ней. В минуты отрезвления я погружал обе руки в ее густые жестковатые волосы, распрямлял их на груди, гладил, целовал. Расширившиеся глаза ее мерцали, лицо было неестественно белым. Я боялся отпустить ее, будто она могла вдруг раствориться в ночи, исчезнуть… И предчувствие меня не обмануло. Помню, мне пришла мысль: «Вот оно, твое счастье, Шувалов! Второй раз ты такой женщины не встретишь… Никогда!» Я тогда еще не знал, что, когда человек счастлив с одной, вторая ему просто не нужна. Тогда я еще многого не знал. Я черпал счастье обеими руками, упивался им, купался в нем… Но, наверное, много счастья так же вредно, как переесть сладкого или перепить горького… Человек за все должен расплачиваться, в том числе и за счастье…
Разве думал я тогда, что эта ночь на сеновале в Кукино первая и последняя?..
Когда звезды стали тускнеть, а над кромкой соснового бора заблистали зарницы, Вероника ушла от меня. Ей не хотелось, чтобы мои родственники увидели ее на сеновале. На лугу посверкивала обильная роса, громко прокукарекал наш петух, у изгороди зеленым светом полыхнули кошачьи глаза и сразу погасли.
Я слышал ее шелестящие шаги, тихий скрип двери на веранду. На крышу сеновала села какая-то большая птица и молча стала разгуливать по деревянному коньку, царапая его когтями.
Усталый, но безмерно счастливый, я, раскинув руки, лежал на сене и смотрел в светлеющий квадрат распахнутой двери. Созвездия исчезли, лишь Венера ярко сверкала на утреннем небе. И тогда меня будто что-то толкнуло в бок, я спустился по лестнице и босиком зашагал по росистой траве к веранде,— подкравшись к окну, заглянул: Вероника лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Черные ресницы ее вздрагивали, длинные пряди волос ворохом рассыпались по белой подушке.
Пятясь, отошел от окна, мокрая крапива обожгла ногу — я был в одних трусах,— зачем-то подошел к «Жигулям», положил ладонь на холодный капот, потом пальцем начертил на запотевшем стекле номер своего телефона. Кто водил моим пальцем по стеклу? Уж не сам ли господь бог?.. Взойдет солнце, и номер мой вместе с утренней росой испарится…
Бегом добежал до сарая, роса холодила ступни, брызгала с травы на икры. Птица тяжело взлетела с крыши, это оказалась большая ворона. Вслед за ней из скворечника сорвался черный скворец и молча скрылся в ветвях березы за баней. Звезд на небе не видно, на востоке над кромкой леса набухала багровая полоса. А над сосной низко блестела одна-единственная яркая звезда, Венера. Она вместе с солнцем встречала новый день. С первыми лучами она растворится в голубевшем небе.
Я рухнул на смятую постель, последнее, что я запомнил, это пустое осиное гнездо над головой,— казалось, оно шевелилось, раздувалось, будто готовилось с треском лопнуть… Я провалился, как в омут, в глубокий сон без сновидений.
Когда я проснулся, солнце уже раскалило шиферную крышу сеновала, во дворе негромко повизгивала пила, слышались голоса скворцов. Дядя Федор имел привычку по утрам пилить на козлах двуручной пилой дрова. В этот монотонный звук ворвалось всполошное кудахтанье, где-то на проселке залилась лаем собака.
Я вспомнил минувшую ночь, и чувство счастья вновь захлестнуло меня. Сейчас я увижу Веронику! В одних трусах я стремительно спустился по шаткой лестнице.
Дядя Федор, таская пилу за изогнутую отполированную ручку, с усмешкой смотрел на меня.
— Все на свете ты проспал, племянничек! — сказал он.— Тю-тю… Уехала твоя черноволосая русалка.
— Уехала?! — не поверил я своим ушам.
— И завтракать не стала, завела свою машину и укатила.
— Что же вы меня не разбудили?!
— Не позволила, говорит, еще с вечера с тобой попрощалась…
Вот она, расплата за испытанное счастье! Я стоял столбом перед дядей и чувствовал, что мое кратковременное сумасшедшее счастье, как разряд молнии по громоотводу, стремительно уходит в землю. А запоздалый гром возмездия уже гремел в моих ушах…
— Тяжело одному? — вяло сказал я.— Давай вдвоем.
Поймал прыгающий конец ржавой у рукоятки пилы и, тупо глядя под ноги, принялся таскать его туда-сюда.
— Что-то ты ее расстроил,— заметил дядя Федор.— С вечера-то была веселая, все смеялась, а уезжала — в лице ни кровинки.
Я молча таскал пилу, белые опилки брызгали на ноги. В голове ни одной путной мысли.
— Поди их, баб, пойми,— сочувствуя мне, проговорил дядя Федор.— На всякий цветочек пчелка садится, да не со всякого поноску берет.
Читать дальше