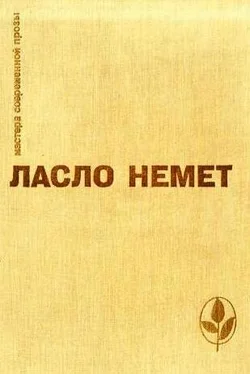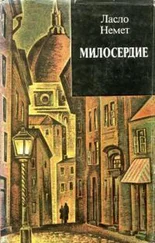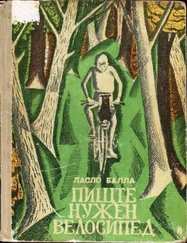Однако настоящий культ портрета начался с приездом Эржи Кизелы. Жофи не слишком распространялась перед Кизелой о Шандоре, но в свои жалобы охотно вплетала что-нибудь вроде: «На кладбище-то мне пути заказаны, так я уж здесь нет-нет да и принесу ему, моему бедненькому, цветочков». И с тех пор, когда бы ни зашла Кизела, за рамой портрета непременно красовались свежие цветы. Часто и при жилице Жофи заставляла Шанику забираться на стул и прикреплять цветы к портрету. Сидя на кухне, Кизела не раз слышала, как мать поучала сына: «Папенька все видит из рая, он был очень хороший человек, и ты должен стать таким же, как вырастешь. Когда папенька умер, ты был еще такой малюсенький, как Дундика у дяди аптекаря. Однажды папенька нахлобучил тебе на голову вот эту свою охотничью шляпу. А ты испугался и начал плакать. Тогда папенька отдал тебе шляпу, и ты повыдергал из нее перья».
Постепенно она втянулась в эти рассказы под портретом, которые Шаника слушал, широко раскрыв глаза, как другие дети слушают сказки. Сперва Жофи рассказывала только для Шаники, но потом уже и для себя. В легенды о первом кнуте и о папенькином ружье понемногу стали вплетаться мелкие идиллические воспоминания: «Мамочка тогда была еще девушка, и папенька прислал ей на пасху живого зайчика, а на шее у зайчика была красная ленточка». Или: «На мамочке было белое платье, а на голове тот самый венок, который ты видел в шкафу. И колеса пролеток были все увиты цветами, а кнут — из одних только белых фиалок». Некоторое время Шани охотно слушал эту сказку, но потом начинал скучать, сползал с колен матери и, пользуясь ее размягченностью, требовал варенья. Жофи оставалась одна в вызванном ею к жизни сладостном мареве и, если хотела еще потешить сердце только что испытанным печальным и добрым чувством, вынуждена была рассказывать сказку уже себе самой. Сперва она чуралась этого и почти презирала себя за готовность предаваться мечтам ради мимолетного теплого содроганья. Однако сладостный трепет непобедимо влек ее. Она делала попытку вернуть Шанику к своей сказке. Но Шани уже устал от нее, он плакал и постепенно стал чуждаться висевшего на стене папеньки, за которого должен был молиться. «Не надо, не рассказывай!» — просил он мать с тем внезапно охватывающим ребенка равнодушием, от которого только один шаг до бурного приступа ярости. А для Жофи именно в эти дни все милее становились моменты душевной умиленности, в которых как бы находила отдохновение ее затравленная, выбившаяся из сил ненависть.
Сперва она лишь редко-редко рассказывала себе разные истории о своем муже. Случалось это либо днем, когда Кизела пряталась в свою нору, а Шани посапывал на большой подушке в конце кровати с откинутым покрывалом, либо ночью, когда, взбудораженная очередным сдвоенным монологом, Жофи не могла уснуть.
«Мотыжу я в саду картошку, и вдруг что-то стук меня по спине. Оглядываюсь — никого. Снова мотыжу, но тут по голове что-то — стук! Гяжу — сушеное яблоко. Ага, думаю, вот кто там балуется! Наклоняюсь снова к мотыге, а сама смотрю из-под руки: вон он где, подсматривает с чердака! Он там пшеницу ворошил. Я вида не показываю, пусть посердится. Потом бросаю мотыжить, вхожу в дом и потихоньку крадусь на чердак. Шандор уже опять пшеницу ворошит, пыль стоит столбом, он и не услышал, как я вошла. Но тут уж я в него бросила, да не яблоко, а кукурузный початок. А он ка-ак припустится за мною по чердаку! Там овес кормовой лежал, так мы на нем уж боролись, боролись…» Однако же, как она ни напрягала мозг, воспоминания быстро истощились; у нее только и было в памяти две-три таких истории — их-то и приходилось повторять про себя. Вскоре они совсем сжались, и наконец осталось от каждой лишь несколько слов, сразу же вызывающих желанный настрой: «Мотыжу я картошку, а он на чердаке пшеницу ворошит…» Ей уже не нужно было додумывать всю историю до конца, чтобы вернуть счастливую ясность того весеннего дня. В душе возникало дивное чувство, в котором растворялась, таяла раздраженная закаменелость сознания, мысли разбегались. Но тут же, поймав себя на странном полузабытьи, Жофи испуганно хваталась за стереотипные завораживающие фразы: «…старики были в церкви, а я наверху…» И душа ее снова уплывала в сладостное теплое марево.
Жофи и ее жилица были уже на той стадии, когда надвигается полное отчуждение. Кизела просиживала вечера у почтмейстерши или, закрывшись с оскорбленным видом у себя в комнате, просматривала газеты, а Жофи занималась своими делами, и как только могла, уходила в мечты. И вот как-то вечером уже во время сбора винограда приехал Имре, сын Кизелы, которому наскучило уговаривать мать в письмах. Он пробыл одну только ночь, Жофи даже не заметила, когда он появился. Кизела с заплаканными глазами попросила у нее свежий пододеяльник, чтобы постелить сыну на диване, и ночью долго слышались из ее комнаты два спорящих голоса. Сын говорил с завидным спокойствием, но, когда мать повышала тон, тоже начинал кричать, так что Кизела с испугу переходила на шепот. Затем опять слышалась ровная то заносчивая, то увещевающая интонация сына и следом — вскрики обороняющейся матери. Перед рассветом они угомонились.
Читать дальше