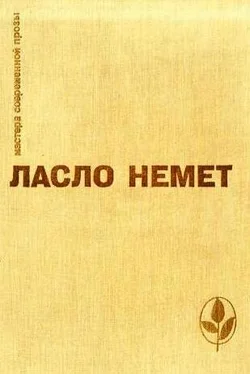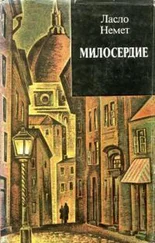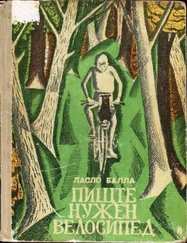— Что твоя мамочка делает, спит? — спросила она как-то выскользнувшего из комнаты Шани, битый час просидев на кухне и слушая, как мальчик пытается изнутри отворить дверь. Обычно Шанике не о чем было разговаривать с Кизелой, в лучшем случае он останавливался и глядел на нее молча или сразу выбегал к своим уткам. Но на этот раз он отозвался:
— Шепчет.
— Что-что? Что мама делает?
— Шепчет. — По черным его глазенкам было видно, что он и сам находит это интересным.
— На ушко тебе шепчет?
— Нет. Шепчет, и все, — упорствовал Шани, и в его глазах, только что заговорщически улыбавшихся, вспыхнуло раздражение. — Не понимаешь, шепчет!
«Три года ребенку, а он не может сказать толком, что хочет», — подумала Кизела. Но на другой день она и сама заметила, наблюдая за Жофи из-за занавески, что та, раскалывая мелкие поленца под окном, быстро-быстро шевелит при этом губами. Она что-то бормотала про себя — вот почему малыш сказал, что мама шепчет!
Эржи Кизелу несказанно сердила эта таинственная внутренняя жизнь Жофи. Старуха ходила по дому с видом оскорбленным и подозрительным, занятая по видимости только своими кастрюльками, утренним кофе да газетой, но в то же время примечая всякую малость. Неожиданно распахивала двери; если Жофи возилась на кухне, занавеска на двери жилицы все время колыхалась; потом Кизела зачастила в палисадник подвязывать астры, чтобы, вдруг выпрямившись, заглянуть в комнату Жофи.
Жофи не настолько погружена была в свой новый мир, чтобы не замечать оскорбленной и не спускающей с нее глаз Кизелы. То и дело, вздрогнув, она переносилась от странных мечтаний в действительность, отягощенную Кизелой, и успокаивалась лишь после того, как, быстро и подозрительно оглядев все вокруг, убеждалась, что занавески на окне задней комнаты плотно задернуты, а неожиданный треск половицы за дверью, когда она вдруг быстро нажимала ручку, не означал, что кто-то стоит в коридоре и подсматривает за ней. Иногда тревога ее вызывалась только укорами собственной совести, в другой раз это и в самом деле была Кизела, которая, вернувшись домой, не выстукивала каблуками до самой ее двери, а сразу шла к себе. Жофи прекрасно понимала, что означают оскорбленно-уклончивые речи Кизелы: «Я и зашла бы, но вижу, что вы в последнее время устаете. Уж лучше пойду к почтмейстерше, чем у вас под ногами мешаться!» Услышав такие слова, Жофи всякий раз начинала зазывать Кизелу к себе с особенным дружелюбием, ставила на стол угощение — обычно это были ореховые печенья, присланные матерью, — однако ореховые печенья не могли смягчить Кизелу, ей необходимы были те горькие вечерние излияния, от которых Жофи сейчас все чаще уклонялась, а если и принуждала себя, чтобы не злить оскорбленно поджимавшую губы Кизелу, то уже без всякого интереса.
Жофи тоже беспокоила происшедшая в ней перемена, которую иногда по утрам, на ясную голову, или после какого-нибудь едкого замечания Кизелы она и сама находила болезненной. Она никогда не думала, что эта глупая, хоть и сладкая игра так захватит ее. Собственно говоря, началось это еще прошлой зимой, когда она отдала увеличить портрет мужа. С тех пор как переехала от свекрови, Жофи не часто ходила к мужу на кладбище… У Ковачей было что-то вроде склепа, с некоторых пор у зажиточных крестьян вошло в моду помещать гробы своих усопших в забранные досками подвалы. Начало этой моде положили Кураторы, и старая Ковач не могла остаться позади. Шандор лежал под широкой каменной плитой, которую установила его мать еще для своего свекра; имя Шандора выбили на камне позднее, под именами старика и его умершей от чахотки дочери. Сверху значилось: «Семейство Ковачей» — и Жофи перед этим камнем всякий раз чувствовала, что Ковачи отобрали у нее мужа и ей здесь нечего делать. Случались и неприятности помельче. Старая Ковачиха, еще издали завидев Жофи, тотчас уходила, но свою мотыгу оставляла на могиле, как бы показывая: как только бы уберешься отсюда, я вернусь. А в день всех святых она вовсе разошлась: отбросила от изголовья венок, который принесла Жофи, повесила его снаружи на ограду, так что Жофи вернулась домой в слезах, твердя, что никогда больше не пойдет на кладбище, что свекровь отлучила ее от могилы мужа.
И тут ей как раз подвернулся какой-то фотограф, бравшийся увеличивать портреты. Жофи ухватилась за это: по крайней мере и у нее теперь будет место, подле которого можно вволю погоревать о муже. У Жофи не осталось подходящей фотографии бедного ее Шандора, кроме одного неплохого любительского снимка, сделанного на охоте; Шандор стоял там в обнимку с Шёмьеном, в охотничьей шляпе, сдвинутой набекрень, а в руке держал кувшин. С этой-то фотографии и сделан был портрет; фотограф подретушировал кое-как шляпу, поставив ее прямее, но раскрытому в хохоте рту и сверкающим зубам так и не удалось придать более подобающий покойнику серьезный вид, наоборот, получилось еще забавнее. Жофи поначалу никак не хотела узнавать мужа в этой пустой, с кривой ухмылкой физиономии под шляпой с перьями, но потом привыкла. Прежде, настроившись подумать о Шандоре, она должна была насиловать свою память, выбирая среди сотен помнившихся ей выражений его лица одно, а теперь на стене висела эта увеличенная фотография, и, чем чаще Жофи на нее смотрела, тем безвозвратнее уходил из памяти подлинный облик мужа.
Читать дальше