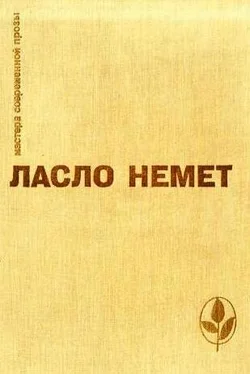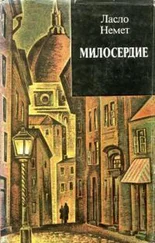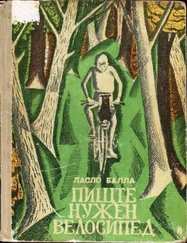На другой день он опять стоял у ворот рынка на Сенной площади, выбирая подходящих клиентов. Вдруг он почувствовал, что с ним начинается та же, позавчерашняя история. Какие бы клятвы он себе сейчас ни давал, если в руке у него появится сетка, он бросится с нею бежать, а хозяйка будет кричать и плакать. Абрикосы были последнее, что Лайош ел за эти три дня.
От голода и постыдных мыслей ему стало так плохо, что пришлось обхватить руками телеграфный столб. «Что, брат? Виноградной лозой решил поработать при этом столбе? — хлопнул его кто-то по плечу. Это был Корани. — Сестра твоя строго-настрого мне наказала, чтобы я тебя разыскал. Так горюет, бедняга, боится, как бы ты над собой не сделал чего». — «Сестра? — пробормотал Лайош. — А ты тут при чем?» — «Я своих знакомых не забываю, а на сей раз и ты можешь мне быть благодарен, что я твою родню помню. Место она тебе какое-то нашла. И сказала, что ждет тебя где обычно».
Не прошло и четверти часа, а Лайош уже стоял в переулке за Кооперативом. Рука сестры лежала у него на локте, и не просто лежала — пальцы ее нежно поглаживали руку Лайоша. «Я так горевала, что ты не приходишь. Я ведь знала, что нет у тебя никакого места, и если ты не пришел, то что-то не так. А тут приходит садовник наш, он вообще-то каменщик, но и в бетонных работах смыслит, и говорит: „Получил я работу в таком месте, где и брата твоего могу пристроить“. Я ему жаловалась, что ты без работы…» Она снова ласково и заискивающе заглянула в глаза Лайошу, будто это он должен был ей что-то простить. «Ой, думаю, а он как раз куда-то пропал. А тут Корани этот является, одежду старую клянчит. Выследил, где я живу. Спрашиваю его, не видал ли тебя где-нибудь. Нет, говорит, не видал, но знает, где ты бываешь. Ну так найдите мне его, а я вас отблагодарю. С тех пор каждый день тебя здесь высматриваю, нынче уж подумала было, и ждать больше не стоит. А теперь ты поторопись, чтоб другого кого не взяли».
Лайошу казалось, что мостовая в Буде в разных местах сделана из разного материала. На улице Кристины, где он брел утром к рынку, булыжник притягивал подошвы его башмаков, наливал ноги странной свинцовой тяжестью, которая поднималась вверх, до самой груди, так что граница меж человеком и землей размывалась, стиралась, и, взбираясь по лестнице, Лайош на каждом шагу словно тянул за собой всю улицу, увязая в ней, как в густом тесте. А на улице Маргит, по которой Лайош мчался с принесенной Корани вестью, тротуар был лишен всяких свойств материи — Лайош словно бы не ступал по камням, а какой-то мотор нес его над землей, удерживая в невесомости стучащими в сердце словами: «работа», «Мари», «не может быть» и еще какими-то. На улице Бимбо мостовая вновь появилась, но здесь она была упругой, веселой. Она подталкивала его, словно движущаяся лестница, даже на самом крутом подъеме; делая шаг, Лайош каждый раз чувствовал, что у него есть ноги, а под ногами — земля, которая призвана им служить. Эти новые свойства, неожиданно оказавшиеся у мостовой, тоже проникали в тело, подчиняя себе мозг и самоё совесть. Сетка со спелыми абрикосами — которые давно стали гумусом в кукурузе у Будайской заставы, а сама сетка развеялась дымом в чистом воздухе — тоже вела себя в разных местах совершенно по-разному. На Кристине злополучные абрикосы, размокнув зеленоватыми хлопьями, плавали в застоявшейся луже рядом с синим лицом припадочного, несколькими банками из-под сардин и будильником с кончившимся заводом, последними судорогами своей пружины хрипящим одно только слово: «жратва». На улице Маргит от абрикосов оставалось лишь нечто зловонное, едкое, словно спирт, синим адским огнем горящее возле рвущейся на свободу души, вновь и вновь опаляя отрастающие ее крылья. На Бимбо абрикосов не было и в помине, мир был чист от абрикосовой скверны, а те розово-желтые фрукты, что лежали аккуратными горками в витринах лавок, смотрели на Лайоша так невинно, будто на свете не существовало маленькой женщины с лицом как у жены преподобного, будто никогда и не обступала ее сочувствующая толпа в крытом рынке на пештской стороне.
На этой волшебной улице не только абрикосы, но даже механическая тележка отступила куда-то, ушла в какую-то темную, овражистую область души. Как ни обстоятельно объяснял Лайош припадочному, за что он не любит поденщину и почему разочаровался в строительном деле, однако, когда на крутой и извилистой улице Бимбо за спиной у него добродушно зафыркал огромный автобус, на его сигналы душа Лайоша откликнулась не сиреной его тележки, напоминающей сразу и велосипед и дрезину, а веселым стуком звонких, сухих кирпичей; кожа ладоней словно чувствовала уже шероховатость прокаленной их поверхности, оставляющей в пальцах легкую онемелость, ускользающую и приятную, точно терпкий вкус во рту от молодого, крепкого яблока, только-только сорванного с ветки. Сыроватый сумрак пещер, ночная тьма, холод росы по утрам — все вдруг ушло, провалилось в какие-то тайные подземные пустоты, и чистые голоса кирпичей до дна заполнили мироздание; сами горы, покоясь на бетонных фундаментах, строго следили, чтобы сырые испарения не поднялись из-под них к куполу синего неба. По указанию Мари Лайош должен был найти господина Бодала, бетонщика. Это слово, «бетонщик», само по себе позволяло почувствовать, на какую стройку Лайош попал. Добрые глаза столяра Шкрубека словно навеки упрятались под лохматые брови, утонули в полутьме комнаты, полной детского визга; комната же затаилась в пещере над Чертовой долиной, чтобы ревниво выглядывать на стеклянный дворец, возводимый на бетонном фундаменте, и на господина Водала, бетонщика. Мысленно Лайош представлял Водала очень высоким, стройным мужчиной, в лице которого есть что-то от серого цвета бетона — но цвет этот нельзя назвать нездоровым, — а решительные руки движутся так, словно это не руки, а стальные шатуны за решетчатыми окнами завода Ганца.
Читать дальше