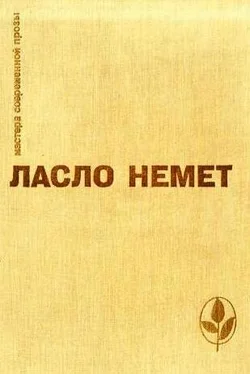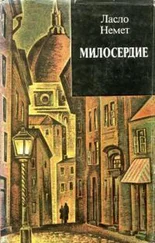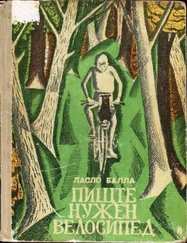— Ты ребенка кормила, я не хотела мешать, — сказала Жофи с жестокостью страдальцев, которые, даже прося прощения, умудряются нанести обиду: как будто то, что она даже не взглянула на младенца, не было самым большим оскорблением для Илуш.
Илуш не обратила внимания на укол; в конце концов, Жофи ей сестра, можно и простить ее, при таком-то горе; однако ей нужно было хотя бы через какое-то подставное лицо все-таки выразить свое недовольство.
— Я и мужа звала, чтобы тоже зашел, но он еще сердится за вчерашнее. Я говорю ему: на Жофи нельзя обижаться, Йенёке, она еще не пришла в себя от несчастья своего. А он мне: несчастья и других постигают, однако же никто не грубит людям. И его, дескать, никто не имеет права из дома выживать.
— Мы и прежде не часто встречались с господином нотариусом, — сказала Жофи, чувствуя себя до какой-то степени отмщенной за свою пропащую жизнь благодаря этому своему ледяному «господин нотариус».
Илуш слегка покраснела.
— Ну нельзя же так, Жофика, все мы среди людей живем и должны знать, как вести себя. Господин Приккель — очень порядочный сердечный человек, с положением в обществе, и он вправе ожидать вежливого обращения в незнакомом доме. Он тебе не понравился, понимаю, но ведь всем нам многое не нравится. Что же было бы, если бы каждый стал это высказывать! А представь положение бедного Йенё: он пригласил этого человека к нам, и вдруг — такой прием. Я его от души пожалела вчера вечером. Илушка, говорит, да мне теперь в глаза господину Приккелю глядеть совестно, хоть из селения беги…
— А кто вас просил приглашать его, кому он нужен, ваш трактирщик? Если понадобилась ему старуха носки штопать, найдет и в своем селе. А меня прошу от этого избавить, не возить мне сюда стариков всяких!
— Стариков? — возмутилась Илуш. — Право же, тебе не стоило бы так говорить! Господин Приккель — старик? Сильный, приятный мужчина, и здоровье у него самое завидное. А что вдовец — ну, прости меня, это несчастье, а не преступление. Если так рассуждать, так и он мог бы пожимать плечами, ты-то ведь тоже вдова, в конце концов. Как ни крути, а вы очень даже друг другу подходите. Или тебе молоденького подавай?
Эта последняя фраза вырвалась у Илуш совершенно неожиданно; она и сама пожалела, зачем сказала в такой форме, но было уже поздно. Куратор, который погрузился было в созерцание рисунка на занавесках, счел своевременным вмешаться. Он встал, взял в руки шапку, показывая, что собрался уходить и только на прощание хочет сказать несколько слов.
— Как бы там ни было, а сейчас ссориться из-за этого — пустое дело. И вы добра хотели, не затем же его сюда привезли, чтобы только позлить Жофи. Но и Жофи не виновата, раз он ей не по душе. Насильно мил не будешь.
Однако выпад Илуш уколол Жофи в самое сердце, и теперь ее было не остановить. Выпрямившись, она стала вдруг словно на голову выше отца. Исхудавшее лицо ее стало белым, как у покойника, и на этом лице безумным блеском сверкали глаза.
— У вас, папа, всегда все правы. И она хотела добра, и я хотела добра, и вы, папа, хотели добра, и трактирщик хотел добра. Ну, а мне ничьего добра не нужно, вот до чего меня довели всякие доброжелатели. Так что теперь пусть никто не желает мне добра, а не то я плюну ему в глаза. И если у кого хорошо жизнь пошла, нечего тыкать другого носом, что он-де разнесчастный такой. Что ж из того, если она до тех пор кривлялась, на шею вешалась, покуда за нотариуса этого не выскочила? Ну и радуйся, выставляй напоказ свою серебряную сумочку, тряси лисьим хвостом, но меня не хлопай по плечу: ничего, мол, Жофи, подбросим и тебе какой-нибудь огрызок. И если она хочет сказать, что ее возлюбил господь, а мною побрезговал, ее правда! Этот господь и дитя ей оставляет, мое же отбирает! Но пусть не красуется здесь перед моим носом. И пусть не гадает, кто мне нужен, я-то помню ее с тех пор, как она под себя ходила, и знаю, что она всегда была такой, как сейчас: подлиза, ябеда, обезьяна-притворщица!
— Право, ты великолепна, Жофи, — нервно рассмеялась Илуш. — Если бы я не принимала в расчет все обстоятельства, по-другому бы с тобой поговорила.
— Хватит, оставьте это, — повернулся к двери старый Куратор. — Тут ты несправедлива была, Жофи, дочка.
— Несправедлива? — вспыхнула Жофи. — А со мною были справедливы? Кто? Бог? Или вы все? Сунули меня сюда, в этот склеп, живой в гроб положили. Посадили мне на шею старуху эту, чтобы за каждым движением моим следила. И мне пришлось впустить ее, иначе вы же первые меня бы и ославили. А теперь, когда я вся плесенью от горя покрылась, гнию здесь заживо, вы бы еще и из села меня выкинули, чтоб стонов моих не слышать. Ну что ж, я понимаю, такой человек в семье всем в тягость: ведь на него как взглянешь, так и вздохнешь, есть к тому охота, нет ли. Но кто вам велит вздыхать-то? Радуйтесь двум другим своим дочерям: одна вон нотариуса подцепила, другая, если и дальше так пойдет, за шофера выскочит. Будут в автомобилях друг к другу ездить. Вы же одного внука с колен спустите, другого посадите. А ко мне хоть бы и вовсе не приходили, и жалеть меня нечего, я и так знаю, что для вас мука смертная горестный вид принимать, на меня глядючи!
Читать дальше