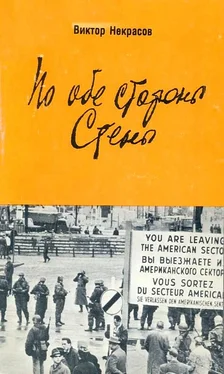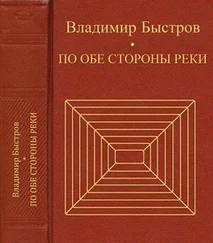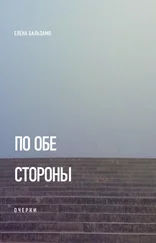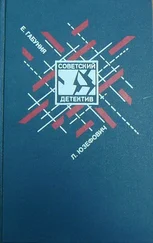Загорая под нежарким, осенним волжским солнцем, я мысленно перебирал, кто же был этот лейтенант или капитан, таскавший в своем сидоре Гамсуна, не расстававшийся с ним даже в дни отступления и перед сном, с разбитыми в кровь ногами отправлявшийся в далекую Норвегию, в маленький полусонный городок на берегу моря. Только Сережа, никто другой. Валерика не было уже в живых. Любитель острых ощущений и всего недозволенного, он попробовал морфия и не проснулся. Это произошло, кажется, на третьем или четвертом курсе института. В ту же страшную ночь Сережа и Женя соединили свою жизнь навсегда. В войну, когда Сережа ушел на фронт, Женя пережила всю оккупацию, с больной матерью Лидией Васильевной и маленькой Иркой на руках. Но все это я узнал уже потом. И как Женя помогала моим, трем старым женщинам, бабушке, маме и тете Соне, как носила им картошку и мыла полы — воду таскать приходилось за два квартала, с Жилянской, там во дворе был кран. В холод, гололедицу. Веселые годы…
После ранения, оказавшись в Киеве, я, не без протекции Лидии Васильевны, известного в Киеве гинеколога, попал в Окружной военный госпиталь и часто, будучи ходячим, наведывался оттуда в большую их комнату в коммуналке на Саксаганского, 32. Потом, демобилизовавшись, зачастил. У них было тихо и уютно. Примостившись в большом вольтеровском кресле у окна, я писал свой опус, или роман — так он в ту пору назывался — о войне. Писал на детских ученических тетрадях, которые с трудом, но можно было достать. Иногда отрывала их от себя маленькая Ирка. К моему творчеству она относилась серьезнее всех. «Тише, дядя Вика пишет своего Хемингуэя». Хемингуэй стал тогда нашим новым кумиром, сменившим, если не забытого, то отошедшего на задний план Гамсуна…
— Женя, а не было ли у вас с Сережей, — спросил я как-то у нее, — маленького такого томика в кожаном переплете с золотым обрезом? Рассказы Гамсуна?
Женя загадочно улыбнулась.
— Не помню. Кажется был…
Но нет, тот лейтенант, что забыл книжечку на подоконнике, не мог быть Сережей. Сережа не отступал от Харькова, он воевал на другом фронте. Кажется, Калининском.
* * *
Дом был заперт. Мы обошли его со всех сторон, ища кого-нибудь, кто мог бы нам его открыть и поводить по комнатам, но никого не было.
— Ну и Бог с ним, — сказал Микола, мой друг. — Говорят, он не очень любил этот дом, работал, а иной раз и ночевал в своей хибарке, она там, в глубине, в чаще.
Мы еще раз обошли дом, заглядывая в окна. Чистота и порядок в нем были идеальные. Паркет блестел, и множество столиков, этажерок и мебель в чехлах отражались в нем, как в зеркале. На стенах висели картины, но трудно было разобрать, что на них изображено. Во всяком случае, ничего абстрактного. Поражали своими размерами люстры с хрустальными подвесками.
— Это стиль норвежской буржуазии, — пояснил Микола. — Не его стиль, поверь мне.
В этом доме жил Кнут Гамсун. Здесь провел последние свои годы, здесь и умер. Вокруг расстилался запущенный сад, переходящий в нечто вроде леса, вернее — опушки леса. Недалеко от поместья протекала речка, а, может быть, не речка, а очень извилистый, глубокий залив. К берегу прилепились шаткие деревянные мостки, на них старик любил сидеть часами и удить рыбу.
— А кто здесь сейчас живет? — спросил я.
— Живут или не живут, не знаю. Возможно, заезжают летом на какое-то время, но принадлежит дом сыну Гамсуна. Думаю, нам повезло, что мы его не застали. Он был гитлеровским летчиком, награжден даже Железным крестом.
Я этого не знал. Так же, как и всех деталей трагической судьбы Гамсуна. А она, действительно, была трагична.
Он симпатизировал Гитлеру. Коллаборантом, по-видимому, не был, но в нацистской идеологии ему что-то импонировало — то ли воспеваемая ею сила, мужественность, окопное братство, то ли все, связанное с Нибелунгами, нордическими легендами. В оккупированной сопротивляющейся Норвегии подобное поведение считалось предательством. После войны Гамсуна судили. На какое-то время заточили в психиатрическую лечебницу. Потом помиловали, и последние годы он провел в этом самом имении. Здесь и работал над последней своей книгой, девяностолетним стариком. Я слыхал, что это лучшее из всего им написанного. Какое-то подведение итогов и рассказ о самых тяжелых днях его жизни. К сожалению, я не читал этой книги, хотя она у меня есть, но, увы, по-норвежски. Приятельница же моя, которой я подарил такую же, хорошо знающая скандинавские языки, так и не удосужилась ее прочесть. При следующей встрече я сделаю ей строгий выговор.
Читать дальше