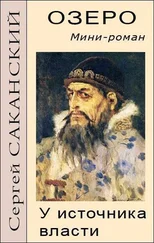Коля был простецким парнем,
не цеплялся он за власть.
При толпе неблагодарной
подписал, чтоб отъеблась.
подмахнул, сломал стило,
дернул в Царское Село.
Миша также, вслед за братом
отвалил, ругнувшись матом.
Встал без шума и без драк
На престол один чувак.
Он размахивал фуражкой.
совещанья собирал —
Александр Федрыч, Сашка,
пиздобол и либерал.
Но известный большевик
все же влез на броневик,
и ведет большевичочек
в коммунизм бронивичочек…
И с чего большевики
любят так броневики?
Уж и не помню тот фрагмент поэмы, где большевиков привезли в запечатанном вагоне в Питер, совершив впрыскивание бациллы. Именно там виртуозно вписывалась в текст загадка про «большевик» и «броневик» — инородная народная ткань.
Но валили люди валом
слушать новую звезду,
и картаво открывал он
рот, похожий на пизду.
Здесь как раз ключевое место сюжета поэмы: ведь весь смысл жизни Ильича по моей версии был в том, чтобы заполучить полноценный пенис, которого он был с рождения лишен. Поэтому он и рвался к власти, именно это и сделал, когда власть была достигнута. Имелся в виду, «период двоевластия», конечно.
И ужо до властелина
в ероплане мчит холуй.
В Питер прямо из Берлина
нелегально прибыл хуй.
Большевистским холуям
заплатили дохуя,
и приштопал холуище
к месту нужному хуище.
Вовик руки им пожал
И ебаться побежал.
Ах, ребятки, как приятно
в первый раз, как в первый класс,
хуем чистым и опрятным
бабе двинуть между глаз!
Надька с воплем отдалась,
насосалась девка всласть…
Он сует, куда попало,
ненасытный: снова мало!
И ебется он, и ссыт.
Хуй, как памятник, стоит.
— Ближе, писька! Жопа, ближе!
Раком! Ставлю в позу сам…
И лежит, пиздюлю лижет,
хуем возит по зубам.
.
.
.
.
.
.
Канули в лету строки о Разливе и шалаше, а жаль: там был запах сена и колорит, и замечательная сцена онанизма с новеньким, пахнущим свежей типографской краской органом. Вот что осталось от этого периода…
И пока большая драка
начиналась не спеша,
смело шпарил Надьку раком
лысый в листьях шалаша.
Осень семнадцатого года описана следующим образом.
И пошли дела большие,
знаменитые в веках.
днем и ночью вся Россия
тусовалась в кабаках.
Вдруг один меньшевичок
тихо входит в кабачок.
говорит: — А если писька
У марксистов-ленинистов?
Слышал я: берут минет,
и у них, мол, хуя нет.
— Есть! — ответил с места лысый.
— Велика, куда ни суй,
большевистская пиписа,
пенис, член, короче — хуй!
На трибуну лезет он,
потный, лысый, как гандон.
Перед ихними вождями
пробежал, гремя мудями.
У великого вождя
пролетарские мудя.
Это был, конечно, момент истории, когда В. И. Ленин ответил выступавшему Церетели с места: «Есть такая партия!» и дальнейшая игра слов «рано/поздно» — о необходимости штурма Зимнего именно до созыва кворума съезда советов, где большевиков бы просто послали нахуй. Вот что заявляет мой личный Ленин, Ленин поэмы «Хуй»:
Вторник — это слишком рано,
а четверг — уже пиздец:
форум будет в сраку пьяный…
Надо в среду брать дворец!
По официальной истории тех лет далее развязалась дискуссия, и Ленину удалось найти аргументы, чтобы убедить соратников в немедленном аресте Временного правительства.
Но политик он не слабый,
и оратор в нем силен.
Гаркнул: Братцы! В Зимнем бабы!
Целый женский батальон.
И ужо большевики
достают свои хуйки.
И бегут они с хуями,
блять, мостами, площадями
баб жопастых отъебать,
заодно — и Зимний взять.
Что за ебля без минета?
Что без ебли сам минет?
Полюбил ее за это
и полковник, и корнет.
Вот Аврора бьет с реки,
и давай большевики
хуем в горло, в сраку раком
и с минетом, и с подмахом
шпарить баб без лишних слов,
перепиздив юнкеров.
А наутро сообразили:
это что же за хуйня?
Мы, выходит, победили?
Вот так штука… Пить, друзья!
.
.
.
.
.
.
Поэма «Хуй» умерла, не родившись, не выйдя к своему народу, так и зависла в черновике, в червивой утробе социализма, который казался вечным, как Агасфер. Я хотел всего лишь отсрочить ее на пятилетку Литинститута, но столько событий произошло за эти ударные годы, что беременность оказалась ложной.
Издох Брежнев. Сдохла еще парочка генсеков. Воцарился Горбатый. Началась Перестройка. Система, которую мой чеканный «Хуй» был призван коварно подтачивать, рухнула сама по себе. Поэма оказалась не нужна. Полная импотенция. Владимир Ильич Ленин побледнел, померк: в те годы он стоял, все еще растиражированный на постаментах по всем городам и селам страны, но жалкий, обосранный голубями, никому не нужный. Таинственный автор поэмы «Хуй», наверное, высказался об этом как-нибудь так…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу