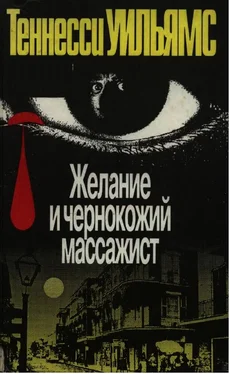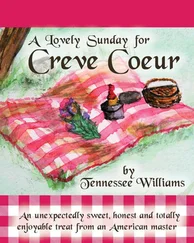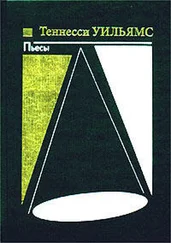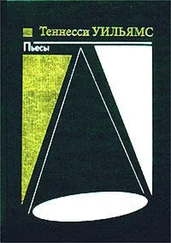Я мотался по стране просто так, безо всяких планов, ездил, чтобы не застояться. Знакомился с мужчинами везде, куда приезжал. Ну, в первую очередь, чтобы было, где переночевать, чтобы накормили и напоили. Но никогда не думал, что для них контакт со мной так важен, а теперь все эти письма, и твое тоже, это доказывают. У меня сейчас такое ощущение, что всем этим людям, чьи лица и имена я сразу же, как мы расставались, забывал, я что-то должен. Не деньги — чувства. А ведь с некоторыми я поступал по-свински: уходил, не попрощавшись, хотя они были очень радушны, — и даже кое-что у них спер. Не представляю, как меня можно простить. Если б я знал, когда был на свободе, что у этих людей, с которыми я знакомился на улице, настоящие чувства, может быть, у меня было бы больше желания жить. А сейчас положение безнадежное. Очень скоро для меня все кончится. Ха-ха.
Ты, наверное, не знаешь, что я был не только боксером, но и художником, а потому и нарисовал тебе этот шедевр!
Письма были единственным его занятием, и подобно тому, как нагревается камень, брошенный в раскаленные угли, так и общение с единоверцами согревало его сердце. Человеческие контакты перед переходом в иной мир могли означать для него спасение. Так обеспечивалось единство духа и тела — стержень, на котором держалась жизнь, чего не было у него со времени потери руки. Не имея этого стержня, человек возводит вокруг себя глухие стены и живет словно в осажденной крепости; вот почему до сих пор Оливер был столь холоден и замкнут — ведь внутри крепости калеки-чемпиона лежали руины, и на поле сражения было мало чего такого (если вообще было), за чье возрождение стоило бы бороться. Теперь же что-то в нем встрепенулось, ожило.
Но это возвращение к жизни было безжалостным — оно произошло столь поздно. Безразличие исчезло, а ведь ему лучше было бы остаться — с ним легче умирать. Время побежало быстрее. В камере, не знавшей перемен, время между жизнью и смертью таяло на глазах, словно тот мягкий графитовый карандаш, которым он писал свои письма.
Как он хотел теперь жить!
До того как Оливер попал в тюрьму, он думал, что его искалеченное тело теперь ни для чего другого не пригодно, как для похоти. «Ты Богом проклятый калека!» — твердил он себе. Раньше ощущения, которые он вызывал в других, были ему не только непонятны, но и отвратительны. Однако в тюрьме поток писем от мужчин, которых он забыл, но которые не забыли его, пробудил в нем к себе интерес. В нем стали оживать эротические ощущения. Он со скорбью почувствовал удовольствие, когда пах легко возбуждался в ответ на прикосновения. Жаркими июльскими ночами он лежал на койке голый и огромной рукой без особой радости исследовал все те эрогенные зоны, которых сотни других рук, тысячи незнакомых пальцев касались с такой ненасытной жадностью; теперь страсть стала ему понятной. Но слишком поздно произошло это воскресение. Время сладострастных стонов должно было умереть тогда же, когда отрезали руку, — в больнице Сан-Диего.
Раньше Оливер особенно не замечал ограниченности пространства своей камеры; по крайней мере, это его не беспокоило. Достаточно было сидеть на краю койки, а двигаться — столько, сколько было нужно, чтобы поддерживать функции тела. Это было нормально. Но теперь он смотрел на все другими глазами; каждое утро ему представлялось, что за ночь, пока он спал, пространство таинственным образом уменьшилось. Все то, что он сдерживал в себе, теперь жаждало освобождения и рвалось наружу. Тревога переросла в страх, а страх — в панику.
На месте он спокойно сидеть не мог ни минуты. Его тяжелые — словно огромной обезьяны — шаги слышались и в дальнем конце коридора. Громко шлепая босыми ногами, он быстро ходил от стены к стене своей камеры. Сам с собой разговаривал — сначала тихо и монотонно, потом громче, а в конце концов болтовня вступила в конкуренцию с тюремным радио. Сначала, когда ему приказывали замолчать, он слушался, но потом паника сделала его глухим к голосам охранников, и им приходилось орать на него и угрожать наказанием. А он хватался за металлическую решетку дверного окошка и обрушивался на охранников с такими ругательствами, которых и они себе не позволяли. Такое поведение смертника привело к тому, что стража стала обращаться с ним без того милосердия, которое она могла бы проявить к человеку, чьи дни были сочтены. В конце концов за три дня до казни во время одного из припадков на него направили брандспойт — он упал и в потоках воды продолжал кричать и ругаться; воспаленное воображение однорукого мучали кошмары.
Читать дальше