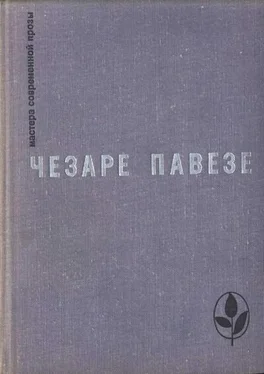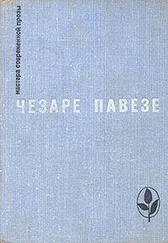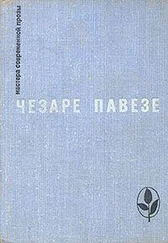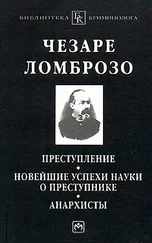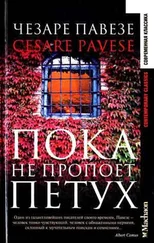Я спросил его, проведет ли он эту зиму в Греппо. Он молча кивнул, внимательно глядя на меня.
— Я все думаю, — сказал я ему, — что, оказавшись снова в этих местах, где прошло твое детство, ты, наверное, испытываешь волнующее чувство. Для тебя, должно быть, все здесь имеет свой голос, свою жизнь. В особенности теперь.
Поли молчал, так уставившись на меня, точно слушал глазами.
— …Даже меня забрало, когда я приехал сюда. Представь себе. Я никогда здесь не был. Но это сочетание запущенности и укоренелости… тут не просто сельская местность, а что-то большее… просто захватило меня. Когда ты здесь жил, уже так и было?
Он упорно смотрел на меня.
— Дом был этот самый, — сказал он. — Тогда было больше народу, больше служб, но дом остался таким же.
— Я не про дом. Я говорю о зарослях, о заброшенных виноградниках, об этом впечатлении дикости. Сегодня утром я загорал возле грота, и мне казалось, будто холм — что-то живое, что у него есть кровь, голос…
Я увидел, что он задумался.
— Ты столько времени прожил здесь, в Греппо, неужели ничего такого тебе никогда не приходило в голову?
Я говорил, а про себя думал: «Если я псих, то и он тоже. Кто знает, может, мы и найдем общий язык».
Но Поли сказал, вертя в руках стакан:
— Как все мальчишки, я до безумия любил животных. У нас были собаки, лошади, котята. У меня был Буб, ирландский рысак, который потом сломал себе спину… Мне нравится в животных их равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Они свободнее нас…
— Может быть, то, что я говорю о холме, ты находишь в животных. Ты любишь диких животных, зайцев, лисиц?
— Нет, — решительно сказал Поли. — Я разговариваю с животными, как разговариваю с вами, а с дикими животными нельзя разговаривать. Я любил Буба потому, что его можно было хлестать. Любил котят, потому что их можно было держать на коленях. Понимаешь? — сказал он, просветлев. — Это все равно как обладать женщиной, быть с мамой… Впрочем, нет, с мамой другое дело, — поправился он. — Бедняжка, из-за нее я страдал. Однажды зимой она уехала в Милан, и рождество я провел один, с прислугой и снегом. По вечерам я, не зажигая света, смотрел в окно на снег и, если женщины искали меня, не откликался, чтобы они сходили с ума от беспокойства…
— Такие воспоминания подходят для зимы, — сказал я.
— Мамы уже нет, — сказал Поли. — Ты прав. Для меня в деревне всегда зима.
Так прошел этот вечер, а когда совсем стемнело, мы пошли ужинать. Пинотта смотрела на нас, сидевших вдвоем за столом, с таким видом, как будто это было очень забавное зрелище, и ходила взад и вперед, шаркая ногами. Меня томило какое-то тревожное чувство, по-видимому, больше, чем Поли. Мы долго пили, и в какой-то момент, сам не знаю как, я заговорил о Розальбе. Я спросил Поли, где она, что с ней сталось.
— О, — сказал он меланхолично, — она умерла.
XXIII
Когда поздним утром они трое приехали на двуколке, у меня голова была как чугун, а голос охрип. Мы всю ночь говорили о смерти Розальбы. Поли мало что знал об этом. Она покончила с собой в том пансионе, который содержали монахини, — отравилась то ли ядом, то ли наркотиком, — когда он уехал на море. Мы прогуливались под соснами, вокруг бассейна, и говорили, говорили до самого утра. Поли говорил, что смерть не имеет значения, что не мы ее причиняем, что внутри нас — радость и покой и ничего больше.
Тогда я спросил его, входит ли кокаин в условия душевного покоя. Он ответил, что все мы употребляем какие-нибудь наркотики, от вина до снотворных, от нудизма до охоты с ее жестокостью.
— При чем тут нудизм? — сказал я.
Оказалось, вот при чем: некоторые выходят на люди голыми из потребности уподобиться животным и преступить человеческую норму.
Мне не хватило ночи, чтобы заставить его признать, что между самоубийством и смертью от болезни или несчастного случая целая пропасть. Поли говорил о Розальбе нетвердым голосом растроганного ребенка; с умилением говорил о тех днях, когда он был при смерти; никто ни в чем не был виноват; Розальба умерла; им обоим было хорошо.
Всю ночь мы, как бы подтверждая его правоту, пили, курили и спорили. Восход солнца застал нас в креслах, за кофе, который подала нам растрепанная Пинотта. Сквозь иглы сосен просвечивала луна. Теперь мы толковали об охоте, о бедных животных: Поли говорил, что из всех наркотиков кровопролитие единственный, пристрастия к которому он не понимает; в крови есть что-то дьявольское, этому научила его Розальба.
Читать дальше