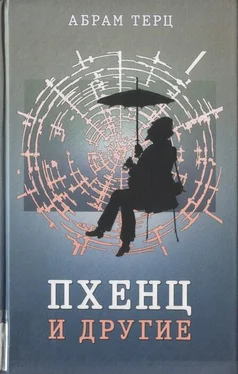Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а лучшие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя собственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такою же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное, подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную… И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников…
Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:
— А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать…
— Хочется! — сказал он, даже не покраснев. — Хочется! Но ведь я не драматург и, к сожалению, не прозаик. У меня не получится… Вот на твоем бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное… Рассказ, или еще лучше — повесть, роман, эпопею! Я бы назвал ее «Графоманы»! Эпопею про неудачных писателей. Материал, материал-то какой пропадает!..
Видя, что он уклоняется, я спросил — тоже достаточно иронически:
— А как тебе покажется, Семен, такая фраза?.. Мне сейчас довелось услышать…
И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы».
Но Галкин опять не покраснел.
— Плохая фраза, — сказал он хладнокровно. — Избитая, старая, как двугривенный… Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!..
Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:
— Неудачники? Все — неудачники! Всякий человек — неудавшийся гений! Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем… И только в нас, в нас самосознание человечества…
Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не замечали. Мое сердце наполнялось презрением. Они украли у меня драгоценность, и назвали ее двугривенным, и пустили ее в оборот, чтобы повысить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорялись у меня на глазах…
В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком ее нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.
Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, соорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку, и он не поехал к себе в Фили и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето».
Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысля. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною — с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.
Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупицы, даже в искаженном виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.
Как проклинал я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад — с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами…
Читать дальше