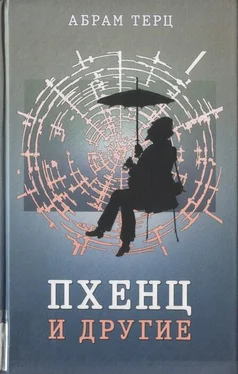6
Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатилась вниз, со ступеньки на ступеньку, Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.
— Куда же вы, Лида? — сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.
Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу — в свой обычный обход.
Все было по-старому. Шел снег, и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.
Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.
Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.
1959
ГРАФОМАНЫ
(Из рассказов о моей жизни)
…По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. И я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженое и выпить бутылку клюквенной за его счет.
Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет…
Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно — даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохлаждался пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.
Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит — особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.
Предо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая шея. Толстые губы и сплюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.
Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающе кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем, как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: — М-м-м-ы-ы! — Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: — М-м-м-ы-ы!
На этом все кончилось… Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:
— Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?
Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота — следы изнурения.
Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, — сказал:
— Очень странно, Семен, — сказал я. — Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, — я нарочно сказал «труды», — считаешь за графоманию?
— Да! Считаю. Считаю, черт побери!
— И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.
Читать дальше