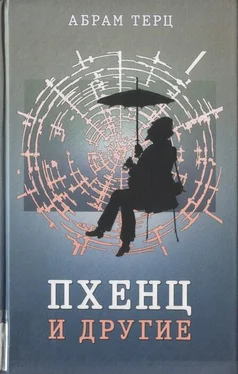Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.
Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забили деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то перестал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холодной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.
Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.
Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипятку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!
Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.
Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит воздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.
Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?
Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.
Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицкая задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.
Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чувствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленутое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.
Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.
Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.
Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Кострицкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — урода, наиглавнейшего урода Земли.
Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.
Читать дальше