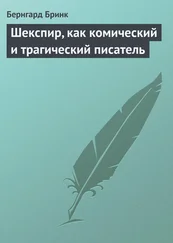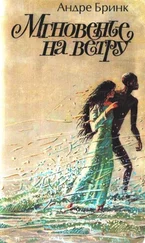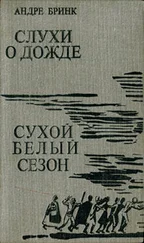На этот раз торговля напоминала бушующий полевой пожар, и благодаря нескольким туземцам, которых я нанял в Алгоа Бей, сделки проходили очень быстро. А когда все железные котелки были раскуплены, мне пришла в голову мысль продавать жадным до них дикарям дробинки на рассаду. «Это не котелки, а семена, — втолковывал я им. — Просто положите зерно в воду, и через месяц начнет расти горшок. Как только он вырастет до нужного размера, можете вытаскивать его из воды». Надо было видеть, с каким восторгом они покупали дробь, платя за каждую дробинку половинную стоимость котелка. Когда мы двинулись в путь, наши фургоны еле тащились, до отказа нагруженные слоновой костью. Чтобы не нарваться на пограничный патруль, о котором меня предупредил один из туземцев, я оставил герра Либермана с фургонами неподалеку от Алгоа Бей и сам отправился вперед, чтобы убедиться в том, что берег чист.
И тут удача вдруг изменила мне. Когда я вернулся туда, где оставил фургоны, я нашел там лишь одного из погонщиков, которому удалось скрыться в кустах при внезапном появлении патруля.
И снова я был вынужден наниматься на фермы, сначала в Сурфельде, в восточных районах, но затем, после войны девятнадцатого года, когда племена коса лавиной пересекли границу, грабя и уничтожая все на своем пути, я вернулся в более безопасные края и обосновался неподалеку от Ворчестера. К тому времени мне удалось скопить небольшую сумму денег, однако фермеры были либо чудовищно скупы, либо не могли предложить приличную плату; чаще всего они нанимали меня, расплачиваясь частью урожая, а когда бывали засушливые годы — что случилось со мной три раза подряд, — я оставался почти ни с чем, еле-еле наскребая денег на то, чтобы прокормиться и прикрыть голую задницу.
Далеко за морем мать тосковала и ждала меня. Быть может, она уже ослепла от слез. А может быть, и умерла. Но единственное, чем я мог похвастаться, была работа на фермах, принадлежавших не мне, а другим. Звучные слова далекого прошлого начали понемногу изглаживаться из памяти, словно их яркие обрывки снова сорвало с изгороди и унесло ветром. Значит, все было напрасно? Великие лозунги революции. Наполеон. Неужели напрасно?
На крошечном участке старого, выжившего из ума сапожника Дальре в Хауд-ден-Беке мне снова блеснул слабый луч надежды. Лето стояло хорошее. Сухое, но хорошее. Пшеница колыхалась на ветру. Меня просили помочь убрать урожай и на соседних фермах. Вновь забрезжила надежда заработать достаточно денег, накупить товаров, погрузить их в фургоны и отправиться в глубинку за слоновой костью.
Впервые в жизни ко мне относились с некоторым почтением. Не старик Дальре и не семейство Ван дер Мерве, смотревшее на меня свысока, как на обычного работника, а рабы. Удивительно, с какой охотой они собирались вокруг меня, жадно слушая все, что мне взбредет в голову рассказать. Еще, еще, еще, подстегивали они меня. В их глазах я был необыкновенным человеком. А может, порой думал я, мое время еще не вышло? Ведь впереди у меня полжизни. Быть может, моя рубашка наконец проявит свою магическую силу, быть может, мать не напрасно ждала меня так долго?
Все эти мысли постоянно вертелись у меня в голове в то лето. Особенно занимали они меня во время путешествия с Николасом в Кейптаун в конце октября и в тот октябрьский день, когда мы убирали на поле пшеницу. И конечно, в тот послеполуденный час, когда мы сразу после Нового года молотили зерно на гумне. Ведь именно тогда, по-моему, все и решилось окончательно.
Галант
 Белый. Ребенок Памелы был белый.
Белый. Ребенок Памелы был белый.
Николас
 Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья — весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное — пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья — весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное — пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Читать дальше
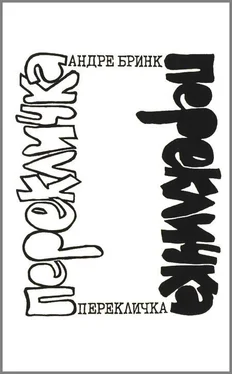
 Белый. Ребенок Памелы был белый.
Белый. Ребенок Памелы был белый. Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья — весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное — пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья — весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное — пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.