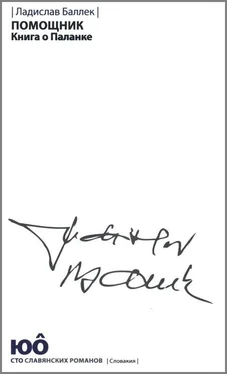Ему иной раз снилось, что он переводит эту дебелую, кроткую, немного косящую молодую женщину на перекладине через речку. Но он ни разу не перевел ее на другой берег, даже во сне ему нужен был помощник. Даже во сне проявлялась его неуверенность. Днем служанка перед ним заискивала, он старался не замечать ее, но думать о ней не переставал. Собственная жена уже наотрез отказалась от него. Как ни странно, но чувство грозящей опасности и вечные заботы вызывали в нем желание.
Воскресным утром он мог выйти в сад подышать свежим воздухом, покурить. Летом, когда не было росы, он мог полежать на траве под деревьями. Сад напоминал ему рощицу, уголок вольной природы с птицами, травой и великолепным покоем. Под раскидистыми деревьями он ощущал приятную оторванность от всех, он был один, предоставлен самому себе, и в такие минуты у него возникало ощущение своей полезности и чувство собственного достоинства. Он принадлежал к поколению, которое умело ухаживать за деревьями, консервировать фрукты, знало лекарственные травы, умело по листьям, небу и травам предугадывать погоду — в общем, не нуждалось столь часто в радио, врачах, аптекарях, психиатрах.
В такие минуты ему вспоминалось детство, вспоминалось, как он бродил в высоких лесных травах, и он начинал красться, высоко подымая ноги, и повторял при этом: «Долины, долины да лес сосновый, не плачь о нас, парень, будь веселый…»
Его представление утра, вынесенное из детства, соединялось с ходьбой по росистой траве, капли которой сбивает ветерок, поднимающийся с восходом на лысых холмах и в лесных просторах от резкого, хотя и кажущегося ничтожным, потепления. Ах, где оно, утро в горах?! Оно наступало внезапно, светало бурно.
А здесь? Здесь светало исподволь, словно зародыш рассвета давно тлел в ночи, свет разливался спокойней, медлительней, но тем стремительнее и острее насыщали воздух терпкие запахи и голоса птиц. И очень скоро наступала жара, невыносимая жара, с дурманящими, тяжелыми потоками ароматов из необъятных просторов полей, лугов, парков и садов, они буквально душили, и, кто к этому не привык, тот чихал, и от этого перенасыщения запахами и звуками ему хотелось реветь, все в нем ухало, как в пустом обширном зале, раздражая самые чувствительные точки.
Кем уж завладеет южный край, тот век от него не освободится, а когда человек начнет помимо своей воли решать задачи невыполнимые, например разбираться в нюансах его сложной и таинственной жизни, — то все, он пропал.
Сегодня утром, когда он вернулся из сада, жена с дочерью в нижних юбках торопливо уносили со стола в комнаты глаженую одежду, все-таки считаясь с его неистребимой стыдливостью. Он терпеть не мог видеть их в нижнем белье, нечувствительность его жены к своей наготе, которую унаследовала и дочь, он считал бесстыдством и всегда бурно выражал свое негодование по этому поводу. Дочь исчезла мгновенно, жена поначалу сделала вид, что не замечает его, но все же, чуть помедлив, сочла за благо уйти. Полуодетая женщина не вызывала в нем ничего, кроме злобы. Она это знала.
Кухня была очень просторная, как заведено повсюду, потому что большая часть жизни семьи проходила в ней (так было и так будет). Свежий утренний воздух, тянувший в приоткрытое окно, надувал белую занавеску и смешивался с резким запахом кофейного эрзаца и прекрасным духом домашнего хлебушка, масла, горящих в печи акациевых поленьев и древесного угля в утюге. Плита марки «Геркулес» еще топилась, желтый массивный буфет, стекло и фарфор в нем, белый кафель над плитой, высокие, покрытые белой эмалью двери, сбоку освещенные лучами желтоватого утреннего солнца, тоже были какими-то праздничными, вызывали впечатление чистоты, новизны и порядка. Воскресным утром в освещенной солнцем кухне от этих запахов, свежего воздуха, нагретой плиты, чистых, выбитых и проветренных половиков, даже от тиканья часов, которые неустанно отмеряют время, рождалось ощущение счастья. Часы, красовавшиеся на буфете, сделанные аляповато, в стиле модерн, шли точно, громко, надежно, стук их отлично действующего механизма резонировал со шкафчиком красного дерева. Они казались работягами и поэтому подходящими для дома торговца послевоенной поры. Их регулярно протирали, заводили, холили — в общем, они были связаны с жизнью дома.
Речан обстоятельно скрутил сигарету и положил ее в тяжелую стеклянную пепельницу на оцинкованной мойке, закрыл окно и повесил на его латунную формованную ручку широкий короткий ремень. Давно отработанным движением выправил на нем бритву, вырвал из макушки волос, рассек его бритвой и улыбнулся: сделано хорошо, можно было бриться. Из бака в плите набрал в алюминиевую миску горячей воды, поставил ее на стол, закурил и крепко затянулся: начиналась неторопливая, но важная работа.
Читать дальше