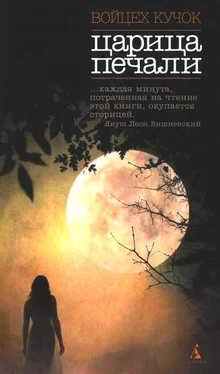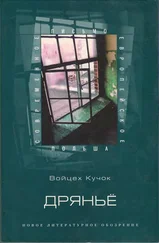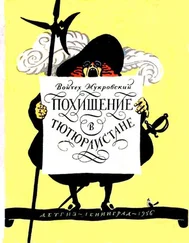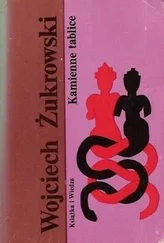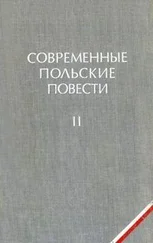Как и у хлыста, у боли тоже есть свои особенности. Уже после первого удара она разливалась тяжестью по всему телу; первый удар отличался внезапностью, он был хуже остальных ударов, потому что его дольше остальных приходилось ждать и, вторгаясь в неподготовленное тело, он достигал самого внушительного результата. В принципе, этого первого удара было достаточно для достижения так называемого воспитательного эффекта, или в данном случае — для принуждения к абсолютному и безусловному повиновению, а такой принцип старый К. прививал и своим собакам, и своему ребенку человечьей породы, но после первого удара, который оказывался лишь подготовительной инъекцией, имели место очередные — усиливающие, закрепляющие всеохватность и повсеместность боли, закрепляющие всеболезность. Как и после инъекции, боль растекается свинцом: через ягодицы, в которых находился эпицентр, она разливается вдоль, вширь и вглубь, доходит аж до мозга костей, покрывая его мурашками, и только тогда, когда они сходят, боль уступает место облегчению, сестра вынимает иглу и трет место укола; так же и эта боль — она разливалась похоже, разве что была неотступной, облегчение никак не могло дождаться и, разочарованное, отходило не солоно хлебавши; этотхлыст приносил жуткую боль, ибо то была боль самолюбия, безраздельно господствующая в единстве места и времени. Старый К. всегда старался нанести лишний удар, хоть один, но про запас, чтобы я лучше запомнил (откуда ему было знать, что этоневозможно запомнить лучше), чтобы я не забыл — не мог я объяснить ему, что этоневозможно забыть. Даже если бы я смог сказать ему об этом, он не поверил бы, ведь его никто никогда не бил этимхлыстом; даже если бы я смог… Но у меня не получалось ничего, кроме возгласов «Папа, не бей!»; хотя позже, во время второго или третьего раза, во время второго или третьего сеанса воспитания, — только «Не бей!», а позже, во время двадцатого или тридцатого раза, уже только «Не-е-е!»; «Нет» — это было самым емким ответом на все возможные неясности, на все предполагаемые вопросы, а также на те, которые ставил передо мной старый К., охаживая меня этим хлыстом. Которые старый К. ставил передо мной один за другим, как одну за другой ставил на мне отметины этогохлыста. Он спрашивал:
— Будешь еще? — (удар) — Будешь еще? — (удар) — Будешь? — (удар) — Будешь? — (удар) — Будешь еще? — (удар).
И хоть я не был до конца уверен, что именно хочет он услышать — то ли то, что я еще буду, как говорят родители своим детям, «непослушным» (в его понимании — не вполне абсолютно и не слишком безоговорочно подчиняющимся), то ли он хотел знать, буду ли я вообще, — и тогда, когда этаболь ко мне пристраивалась, гнездилась во мне и размножалась, я неизменно был уверен, что не буду, что никогда больше не буду есть, пить, дышать, существовать, только бы он перестал бить. И я кричал «Не-е-ет!» или же иногда, когда у меня оставались силы произнести два слова подряд, одно за другим, «Ни буда!», так, на всякий случай не желая его, говорящего с силезским акцентом, обидеть правильным произношением. Случалось, хоть и значительно реже, он спрашивал о чем-то другом, обычно тогда, когда при наказании кто-нибудь присутствовал. Нет, речь вовсе не о присутствии грустных и сочувствующих глаз собаки, которая, как единственное из живых существ, не считая меня, знала тяжесть этогохлыста, которая, более того, знала его запах; о присутствии не собаки, а человека, третьего лица, то есть, например, матери или же сестры-старой-девы, брата-старого-холостяка, или же, что также случалось, хотя и крайне редко, в присутствии кого-то чужого, кого-нибудь из знакомых старого К., особенно тогда, когда тот приходил к нам со своим ребенком; особенно тогда, когда, заигравшись с тем же ребенком, я вдруг начинал слишком шуметь, или же, не приведи господь, бегая с тем же ребенком по комнате, задевал столик и разливал кофе, или же если наши игры каким-нибудь образом мешали разговору старого К. со знакомым. Тогда, даже если виноват был ребенок знакомого, которого старый К. не мог наказать, он демонстрировал, как следует воспитывать ребенка человечьей породы, хватал меня за ухо, говоря знакомому: «Прости, я на минуту», и выпроваживал меня в дальнюю комнату. А там он брал хлыст и бил, задавая специально приготовленный на случай присутствия третьих лиц вопрос, в каком-то смысле более точный и в то же время заранее освобождающий меня от многосложных ответов.
Читать дальше