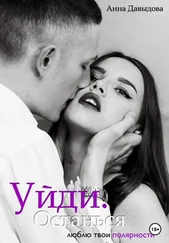— Я с тобой, дорогой. Я тут. Не волнуйся: я с тобой.
Он посмотрел на нее и попытался улыбнуться.
— Я не очень хорошо себя чувствую, — сказал он. Он вспомнил сцену в ресторане, и желудок его забунтовал. — Ничего хуже со мной еще не случалось.
— Дорогой мой, — сказала она, — надо мужаться. — Глаза ее сочувственно блестели, в них было искреннее, безграничное обожание — знакомое выражение, которое постоянно появлялось у нее, когда она была рядом с ним.
— Мне было плохо, — сказал он.
— О Господи! — воскликнула она. — О, мой дорогой.
— Меня вырвало. С желчью. Я бы слег. В любой другой день.
— Ох, бедный ты мой!
Она снова взяла его руку, и он намеренно раздраженно ее отдернул. В прошлом он жадно наслаждался бы ее чувством, купался в этой теплой атмосфере преданности. Последние годы он опирался на то, как она с неизменной любовью и желанием смотрит на него, — возможно, сам того не сознавая, опирался как на подпорку или костыль вместе с виски и с Пейтон; это поддерживало его, помогая жить, несмотря на немыслимое убеждение, что жизнь его не богата событиями, что нет в ней цели и вознаграждения. Это лицо, этот взгляд, это обожание во взгляде были уже достаточной ему наградой. Долли была покорной и боготворила его, и поэтому он ее любил. Так повелось с самого начала: он говорил — она слушала, а под этой своеобразной смесью достоинства и самоуничижения бежал ручеек чувства, которое они оба вынужденно именовали любовью.
Однако сейчас — как не раз бывало в последние несколько месяцев — ее присутствие начало раздражать его, угнетать; каждое произнесенное ею слово нервировало. Он жалел, что взял ее с собой. Только трусость, размышлял он, побудила его пойти к ней в то утро, когда Элен отвергла его. Он просто хотел, чтобы кто-то был с ним: ему было так необходимо с кем-то разговаривать.
— В чем дело, дорогой? — спросила Долли.
Он взглянул на нее. Она выглядела обиженной — обиженной, потому что он отнял у нее свою руку.
— В чем дело? — переспросил он. — О Господи, да право же… — И отвел глаза.
— Да, — мягко произнесла она. — Да, дорогой. Конечно. Я понимаю. Хотела бы я найти такие слова, от которых тебе стало бы легче. — Она порылась в сумке в поисках носового платка и промокнула глаза. — Но в такое время слова бессильны.
Он молчал. В лимузине стало отчаянно жарко. Элла Суон молча провела рукой по лбу. В воздухе удушливо пахло солью и дегтем, напоминая о море, о жаре, о загнивании. Лофтис скрестил ноги, развел их и непонятно почему чихнул — неужели они никогда не починят этот мотор? Раздалось слабое позвякиванье — он увидел торчащий под капотом катафалка зад мистера Каспера, обтянутый блестящей черной материей.
— Все, что пытаешься сказать в подобное время, — добавила Долли, — звучит так неуместно. — Она помолчала. — Почему-то.
«Да успокойся же. Просто помолчи».
Из-за угла выскочил огромный грузовик и, тяжело сотрясаясь, промчался мимо них к станции. На боку у него были большие красные буквы:
Бочки с табаком высоко подпрыгивали в воздухе. Грузовик исчез позади них, оставив за собой слегка едкий запах табака. Мистер Каспер распрямился и вытер руки. Барклей залез в катафалк и включил мотор — тот издал громкий кашляющий звук, словно пес, выплевывающий с кашлем кость, и заработал; зонт голубого дыма вознесся в небеса, а Барклей отважно помахал из окна рукой. Мистер Каспер повернулся с расстроенным видом и залез на переднее сиденье. Катафалк поехал.
— Мне ужасно неприятно, — сказал мистер Каспер. — Ужасно. В такой день…
Речь его перешла в неразборчивый, еле слышный шепот, и лимузин тоже начал двигаться. По обе стороны дороги тянулись поля, заросшие болотной травой, шуршавшей в знойном воздухе; первые приземистые неприглядные городские дома замаячили впереди. По лимузину гуляли порывы воздуха, жаркого, насыщенного запахом мертвой рыбы и гниющей травы. Лофтис слышал доносившиеся с судостроительной верфи, находившейся недалеко, за болотом, звуки падающего металла, клепальных молотков, свисток поезда. Они проехали мимо маленького цветного мальчика, дувшего в жестяной рог, — он вытаращил глаза, глядя на катафалк, большие черные зрачки так и шныряли от удивления. Лофтис заерзал, взглянул на часы, снова скрестил ноги, думая: «Ну разве не достаточно чувства раскаяния? Неужели никак нельзя все это исправить? Неужели недостаточно этого горя? Сколько еще это продлится? Что я могу сделать?» Его по-прежнему преследовал призрак отца, слова, сказанные много лет назад, — старик, у которого неясность выражений часто походила на торжественную манеру речи и торжественную мудрость, но который тем не менее — несмотря на смесь догматизма и дезинформации, пробивавшуюся сквозь жалкие архаичные эдвардианские усы в виде скромного протеста непонимающего человека миру, давно ушедшему вперед, оставив его позади, — умудрился сказать если не действительно мудрые вещи, то по крайней мере долговечные общеизвестные истины, прошедшие проверку временем…
Читать дальше
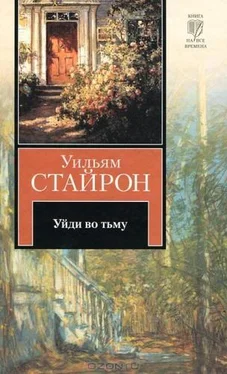





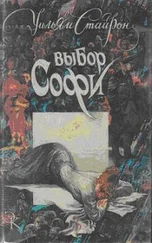

![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)