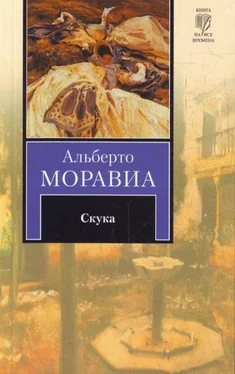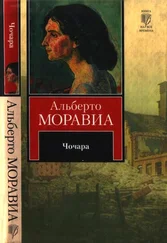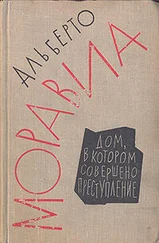— Не забудь, что сегодня у нас урок и сразу же после завтрака мы должны ехать к тебе в студию.
Не знаю почему, но эта необычная предупредительность показалась мне подозрительной, и я даже подумал, что Чечилия хочет воспользоваться мною и нашим якобы свиданием, чтобы прикрыть ими какие-то свои неизвестные мне дела.
Прихожая была обставлена так, как обставляют старинные семейные пансионы в курортных местах: соломенные стулья и столик, в одном углу — горшок с цветком, в другом — гипсовая статуя, представляющая обнаженную женщину. Но и стулья, и столик выглядели ветхими и расхлябанными, во всех углублениях и трещинах статуи было серо от пыли, и вдобавок у нее была отбита рука, а у цветка, который, кажется, зовется фикусом, было всего два листа на самой верхушке длинного голого стебля. Я отметил также, что белые стены были припорошены пылью, давней, глубоко въевшейся, которая по углам потолка сгущалась в паутину — густую и темную. Внезапно я подумал, что такого дома застыдилась бы любая девушка, пуская в него в первый раз своего любовника, любая, но не Чечилия. Чечилия провела меня тем временем длинным пустым коридором, открыла какую– то дверь и знаком пригласила войти.
Я очутился в большой прямоугольной комнате с расположенными по одной стене четырьмя окнами, которые были задернуты желтыми шторами. Две ступеньки и арка делили комнату на две части; более просторная служила гостиной, где стояла та самая мебель, про которую Чечилия сказала, что у нее нет цвета — золоченая мебель в стиле Людовика XIV, подделка под старину, которая была в моде лет сорок назад; она концентрическими кругами располагалась вокруг круглых столиков и тонконогих торшеров с бисерными абажурами. Мне сразу же бросились в глаза белые трещины на позолоте, грязь на цветастых подлокотниках, пятна сырости на маленьких гобеленах с галантными сюжетами. Однако об упадке, в котором пребывал дом, свидетельствовала даже не столько ветхость меблировки, сколько отдельные, почти невероятные детали, говорящие о давнем и совершенно необъяснимом запустении: узкая длинная полоса обоев в цветочках и корзиночках свисала с середины стены, обнажая грубую известь штукатурки, клок с неровными краями был вырван из шторы, в одном из углов потолка зияла глубокая черная дыра. Почему родители Чечилии не позаботились хотя бы о том, чтобы приклеить оторвавшийся кусок обоев, залатать штору, замазать дыру в потолке? А что касается Чечилии, то неужто это и был «дом как дом», «гостиная как гостиная», «мебель как мебель»? Как можно было жить в этом доме и не замечать, в каком необычном, в каком ужасающем состоянии он находится? Раздумывая надо всем этим, я прошел вслед за Чечилией в находившуюся за аркой комнату, которая служила столовой; она была обставлена той же «возрожденческой» мебелью, массивной и темной, которую я уже видел в студии Балестриери. Из радиоприемника, стоявшего на подоконнике, доносились среди полной тишины звуки танцевальной музыки. Может быть, оттого, что в самой тишине этого дома было что-то леденящее душу, я, услышав эти звуки, вдруг заметил, что, несмотря на начало декабря, квартира не отапливалась. Чечилия, которая шла впереди, сказала:
— Папа, позволь представить тебе моего учителя рисования.
Отец Чечилии с трудом поднялся с кресла, где он сидел, слушая радио, и пожал мне руку, ничего не сказав и показывая в то же время на горло, как бы давая понять, что из-за болезни он не может говорить. Я вспомнил тяжелое дыхание и странные звуки, которые слышал несколько дней назад по телефону, и понял, что это он тогда мне отвечал, вернее, тщетно пытался ответить. Я смотрел на него, покуда он, подавшись вперед, приглушал звук в приемнике, а потом с трудом усаживался в свое кожаное кресло, потертое и потемневшее от старости. Видимо, когда-то он был тем, что называют «красивый мужчина», красивый той немного вульгарной красотой, что бывает свойственна слишком правильным лицам. Но от этой красоты не осталось уже ничего. Болезнь изуродовала его лицо, заставив его в одном месте опасть, а в другом раздуться, испещрив его там и сям то белыми, то красными пятнами. Смерть, подумал я, уже видна и в этих черных волосах, лежащих плоско, как неживые, словно смертная испарина приклеила их к вискам и ко лбу, и в лиловом цвете губ, и, главное, в круглых глазах, в которых стоял ужас. Глаза словно кричали о том, о чем уста промолчали бы, даже если бы имели возможность говорить: они заставляли думать не о немоте, а об отчаянии и беспомощности, то были глаза узника с кляпом во рту, которого, одинокого и беспомощного, оставили один на один с приближающейся смертью.
Читать дальше