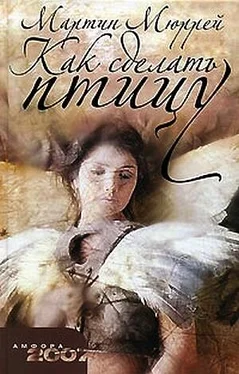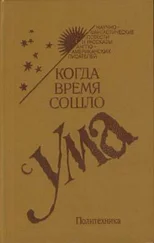Я стояла, уставившись на него.
— Ну, и какого черта ты здесь делаешь, зачем колотишься в мою дверь в такой час? Ты понимаешь, который час? Уже два, черт возьми!
— Я не знала, что это вы.
— Да ну? А вот теперь знаешь. — Трэвис снова засопел. Он был голый, если не считать пижамных штанов, которые он придерживал рукой.
И тогда я вспомнила. Как мы с папой сидели в машине, на той самой дорожке. Как мама неслась вниз по лестнице, туго запахнувшись в пальто. Как папа сказал ей, и как она осела будто подкошенная на цемент, и как на нее смотрели со всех балконов, когда она рыдала и тряслась, словно двухлетний ребенок. Папа вышел из машины и помог ей встать.
— Тебе нужно где-нибудь переночевать, да? — зевнул Трэвис.
— Нет. — Я просто стояла в дверях. Теперь у меня ничего не осталось, огромное облако надежды стремительно из меня вырвалось. Я чувствовала себя лопнувшим воздушным шариком.
Он пожал плечами и сложил руки на груди.
— Ну а чего тебе тогда нужно? Ты выглядишь как уличная девка, понимаешь ты это? Ты выглядишь как чертова уличная девка. Хорошо, что тебя никто не подцепил.
Я заплакала. Я глотала слезы, но он их заметил.
— Господи Исусе! Не надо мне тут ничего устраивать. Лучше проходи. — Он отошел от двери.
Я точно знала одно: я хотела домой, но мои ноги понесли меня внутрь, потому что мои ноги не умели думать.
Комнатка была маленькой, с большим телевизором и музыкальным центром. Там стояли две одинаковые коричневые кушетки, а между ними — столик с пепельницей, кальяном и аккуратной стопкой журналов Rolling Stone. Окно прикрывали тонкие нейлоновые занавески, наводившие на мысль о подштанниках старой дамы. По замыслу они были белыми, в действительности же — серыми и неподвижными. В одном из углов, рядом с большим стеллажом, заполненным пластинками, был установлен вентилятор. В комнате пахло какими-то воскурениями. Я села на кушетку напротив окна. Трэвис развалился на другой. Я поймала себя на том, что рассматриваю керамическую грудь, стоящую на одной из музыкальных колонок. Она была полой, с дырочкой в соске, через которую можно было наливать воду.
— Это кувшин, — ухмыльнулся Трэвис. Я быстро отвела глаза в сторону. — Дошло? Кувшин. — Он испустил короткий пронзительный смешок.
Я смутилась, как будто он смеялся над моей грудью. Поэтому я просто уставилась на ковер. Думаю, чувство юмора мне отказало.
— Я знаю, что тебе нужно, — заявил он. — Тебе нужно дернуть.
— Что?
— Ну, в смысле, косячок. Чертовски помогает, когда тебе херово. — Он склонился к маленькому столику и постучал по кальяну. — Забью тебе травки, если хочешь.
Я неуверенно кивнула. Меня больше ничто не волновало так, как раньше: ни Тонкий Капитан, ни Париж. Я хотела успокоиться. Я хотела по-настоящему успокоиться.
Трэвис принялся за работу. Он растирал, забивал, суетился в поисках зажигалки.
— Ну, так я слышал, твоя мама уехала жить обратно во Францию.
— М-м-м, — сказала я. — Она там живет со своей семьей. С сестрой. — Я, прищурившись, посмотрела на Трэвиса. На самом деле я не хотела, чтобы он о ней так говорил, так, будто он имеет на нее какое-то право. Я вспомнила, о чем мне рассказала Айви. — Мама врала всем, Трэвис. И тебе тоже. — Не знаю, что заставило меня это сказать. Может быть, я хотела слегка пошатнуть и тот мир, в котором жил Трэвис.
— Ты че имеешь в виду, Манон? Че ты там говоришь?
— Она никогда не была актрисой. Она врала. Она действительно приехала сюда с театральной труппой, но она только костюмами занималась. Знаешь, она ведь приехала даже не из Парижа, а из городка под названием Пуатье. Она работала костюмершей. — Последнюю фразу я произнесла как старый горький пропойца и вдобавок к этому фыркнула.
Похоже, Трэвиса это нимало не огорчило. Он разразился диким хохотом.
— Очень может быть. — Он начал закладывать в кальян травку, с веселым удивлением покачивая головой.
Айви сказала, что папе тоже было все равно. Он написал письмо маминой сестре, потому что его очень беспокоили мамины депрессии. Сестра ответила и рассказала ему о маме всю правду. Сестра сказала, что их мать была алкоголичкой и умерла, когда они были маленькими. У мамы была связь с женатым мужчиной, в результате которой она забеременела. Она сделала аборт, после чего у нее стали случаться приступы депрессии.
Папа никогда не признавался маме в том, что знает правду. Ему было не важно, что она ему солгала, не важно, что она никогда не была актрисой. Все это не имело для него никакого значения, его никак не задевали ее поступки, он просто любил ее. Он любил ее так сильно, что позволял ей продолжать рассказывать о том, как она была актрисой. Он даже устраивал небольшие вечеринки, чтобы доставить ей удовольствие предаться этим воспоминаниям, побыть в центре внимания. Маме хотелось, чтобы все считали ее какой-то особенной, и это ей удавалось. Она могла притвориться кем угодно, и никто не собирался оспаривать это. Айви сказала, что маме каким-то образом удалось убедить и саму себя, судя по тому, как она держалась.
Читать дальше