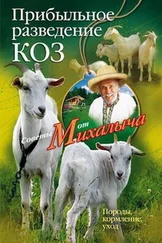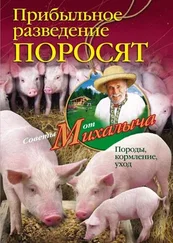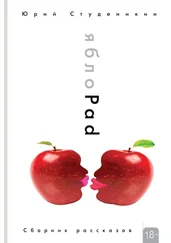— Ну, счастлив твой бог, гнида! — обратясь к Сереге, воскликнул Витька. — Пошли, сестренка! Монах с ними!
— И давно пора! Связываешься с каждым…
Автостанция осталась позади — плоская крыша, залитая смолой, стекло, бетон, суета, автобусы, люди. А когда зашагали по аллейке, пестрой от теней трепещущей листвы, Наташа вспомнила свои субботние ночные страхи — за сумку, за сына, за саму себя, наконец. Может быть, и тот парень, небритый, в мохнатом, поношенном пиджачке, тоже из Витькиных приятелей? Ими ведь хоть пруд пруди. Все его знают! Хотя нет, тот вроде постарше…
— А ты папу нашего помнишь, Вить?
— Отца? Есть такое дело! А как же? — И Витька, ее брат, громкоголосый грубиян и задира, улыбнулся вдруг нежно, рассеянно и печально. — Он, когда бывал выпимши, плясать меня заставлял. Так, всухую, без музыки. Сядет, бывало, на крыльцо. «Ну, давай, — говорит. Победитель! — В ладоши хлопнет и заведет: — Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..» Я и пошел босыми пятками топать — и как хошь, и вприсядку! Знаю, что потом конфетку даст, припасена у него. Чем я хуже цыганенка? А ты — помнишь?
Наташа вздохнула:
— Смутно, знаешь… Кашель один!
А еще? Ну, что еще? Не фотографии, нет, не фотографии с фигурно подрезанными краями, даже не продолговатый мшистый холмик на кладбище за церковью, огороженном только с трех сторон, где в изголовье отцовой могилы врыт сваренный из полых двухдюймовых труб крест — копия тех меловых осьмиконечных крестов, которыми мама, воюя с нечистой силой, метит двери; концы у этих труб расплющены, обрезаны углами и потому похожи на наконечники музейных копий. Не то, не то! Что-то другое — живое, главное, нужное. Но — ускользало! И будто пронафталиненные тряпки из сундука, через плечо полетели клочья детских воспоминаний. Что? Ну, что же? Нет, не доискаться, не поймать…
Ах, да! Стружки — кудрявые, свежие, восхитительно пахнущие, целыми ворохами. И еще — шоколадного цвета, грубые, как сухой навоз, плитки клея, в которых спрятана ужасная вонь. И как Наташа могла забыть это? Столярный клей варят из рыбьих костей. Их папа был столяр. Не краснодеревщик, конечно, нет — вязал рамы, делал лавки и табуретки, но все, кто еще помнит его, говорят: неплохой… У привычной, давней горечи был едва различимый, желтый, тоскливый вкус полыни. Несколько шагов брат и сестра прошли молча, потом Витька сказал:
— Слышь, Наташк? Дай пару рублей. А лучше — три! У меня одна мелочь, понимаешь… Да я отдам!
— Пить будешь? «Веркину муть»? С утра? — нахмурилась Наташа. — У Тоньки уже, кажется, приложился… Мало?
— Нет, коньяк пять звездочек! Ереванского разлива. Не пить — на хлеб мазать! — обиженно огрызнулся Витька. — Не хочешь — не давай, а учить меня нечего! Да я на них , может, спокойно смотреть не могу — трезвый-то!
Они — это, конечно, Лида, теща, Пал Николаич, тесть, друг-приятель бывшего начальника районной милиции. Сказано же: от любви до ненависти… А от влюбленности покорной до бунта? Но что делать? Что делать? Кошелек лежал в сумке, которую нес брат, но в нем — деньги, от которых вчера отказалась Марья Гавриловна, Капитанская Дочка. Ох, вернуть ей их, со временем вернуть обязательно! И сверток с облигациями, который навязал Халабруй, тоже ведь не откажешься, — Наташе не хотелось, чтобы брат увидел все это хотя бы краем глаза: сболтнет матери, будет шум великий! И Наташа, повернувшись к брату боком, сказала:
— Возьми в кармане. Да не в этом, в другом! Суй смелей. Вот бестолковый! Я еще дома на билеты приготовила, положила отдельно, а нас бесплатно… этот, друг-то твой… Ну да, правильно — трояк! А ты думал — четвертная или полсотни? Шагай вперед, возьми мне билет до города! Что? Нет, Андрейке детский пока не надо. Рано еще. Вот вырастет… Остальное — твое, два рубля как раз, с мелочью. Мало тебе? Чего затылок чешешь? Больше все равно не могу, извини! Нет, сумку мне оставь. Оставь, кому сказано?
С сумкой на локте и Андрейкой на руках — ох, привычная ноша! — Наташа поплелась вперед, к высоким, недавно воздвигнутым чернявыми солдатиками платформам. Хорошо, пути переходить не надо — обязательно обо что-нибудь споткнешься. Наташа про себя кляла Катькины туфли, названные тем же словом «платформы», а заодно и собственную неуемную тягу к модному, к тому, что где-то якобы «носят все». Давным-давно, в детстве, уже после смерти папы, когда она бегала в первый класс, проскальзывала в школьный двор сквозь вечный пролом в заборе, ботинки, твердые, будто из железа, навсегда искривили, деформировали Наташе пальцы ног, и открытые босоножки, столь уместные летом, в жару, она поэтому носить стеснялась. К платформе они подошли одновременно: Наташа и зеленая, железная, пыльная, усталая ящерица — электричка. Совсем рядом разъехались, призывно распахнулись ее двери.
Читать дальше