— Да, могу себе представить! — ответила, улыбаясь, Рённев.
— А еще был дед. У него характер легкий был, они с отцом друг друга плохо понимали. Когда дед при смерти лежал, он позвал меня и дал мне нож, который у нас в роду называют наследным клинком. Мы всегда им гордились, и по справедливости он должен был отойти отцу. Но дед дал этот нож мне, потому что у меня — так он объяснил — родинка там, где надо.
— Та, что под сердцем? — спросила Рённев.
— Да, говорят, что у опального рыцаря, от которого наш род пошел, была такая родинка — ворожбой наведенная, говорят. Болтовня все это, конечно. Вот как мне достался нож. А отцу это не очень-то понравилось. Что до меня, я мог бы нож отцу и отдать. Но он обиделся и ни за что не принял бы его, я знаю. После этого нам стало трудно говорить друг с другом…
— А что в этом ноже такого необыкновенного?
— Да это все, наверное, болтовня. Говорят, когда-то этот нож был мечом и принадлежал опальному рыцарю, который скрывался в нашей долине. От него-то наш род и пошел. Королевские люди разыскали его и казнили у Брункебергской церкви — казнили мечом, а не топором, потому что он был не простого рода. Разное говорят. Помнишь, я как-то пел тебе старую песню о Вилеманне и Сингне? Говорят, она про этого рыцаря. Только непохоже — ведь в песне поется совсем о другом.
Он тихонько напел первый стих:
И Вилеманн к матери старой вошел,
А кукушка пропела беду.
«Отчего ты так бледен, молчишь отчего?»
И пала роса.
И изморозь белая пала.
Помнишь, он едет к Синей Горе, чтобы найти и освободить сестру. И вот он сам попадает в гору, и забывает все, и не узнает сестры. Но спустя много-много лет он слышит колокольный звон, узнает сестру, спасает ее, но зато великанша убивает его самого.
— Это я помню, — ответила Рённев. — Странная песня. Только я думала, в ней говорится не о том, что ты сейчас рассказывал.
— И я так думаю.
Помолчали.
— Как нескладно, — сказал Ховард. — Очень уж мне хотелось отдать отцу этот нож.
Голос его оборвался.
Рённев, не двигаясь, смотрела на него. Она знала, что сейчас мысли его в далеком Телемарке.
Помолчав, она сказала.
— Пойдем-ка спать, Ховард. Душу ты хоть немного облегчил.
— Может быть, — пробормотал он. Голова у него была какая-то тяжелая. Верно, от всех тех чарок у барышника…
— Иди, ложись, — сказал он. — А мне надо пойти взглянуть на лошадей. Там, у барышника, Ларс здорово перебрал, небось валяется где-нибудь в канаве.
Было по-осеннему темно, когда он шел к конюшне. Он все еще думал о том, о чем рассказывал.
— И вовсе я не такой шалопутный, как это тебе казалось, отец, — сказал он в темноту.
Никто не ответил.
Он открыл дверь конюшни.
Оттуда доносилось знакомое ржание.
Он взял ведра и два раза сходил за водой. Он хотел дать лошадям сена на ночь и обнаружил, что Ларс забыл сходить на сеновал. Большой кошель — пехтярь, как его тут на севере называют — был пуст. Пехтярь был очень большой, сплетен из ивовых веток и с двумя лямками, тоже из ивы. Когда он набит доверху, не всякий его поднимет. Ховард закинул кошель на спину и пошел на сеновал. Там тоже ни зги не видать, но Ховард знает, где что лежит.
Ему показалось, что наверху что-то зашуршало, он остановился, но все стихло. Кошка, наверно. Только он набил кошель и собрался взвалить на плечи, как ему послышалось:
— Ховард…
Может, это донеслось сверху, с сеновала, а может, издалека — так слабо и глухо это прозвучало.
Но самое странное, что окликнула его Туне. Ее-то голос он знает.
Он стоял, прислушиваясь.
— Это я, Туне, — донеслось издалека чуть слышно, как дуновение ветра.
Он почувствовал, как у него волосы встали дыбом. На лбу выступил холодный пот.
— Это ты, Туне? — спросил он.
Ответом был холодный смех — тоже издалека, как будто смех летел из-за гор и лесов. Но Туне не так смеялась, он помнил другой смех.
— Чего ты хочешь от меня, Туне?
Молчание. И все время слышится слабый звук — словно жалобно, тоненько гудит далекий ветер, который скорее чувствуешь, чем слышишь под холодным, звездным зимним небом.
— Как тебе там, Туне?
Молчание. Потом снова холодный смех, далеко-далеко. И вот донеслось — но так тихо, что он сам не понял, услышал ли:
— Ты же знаешь, где я теперь…
Больше он ничего не слышал и не говорил.
Потом — он и сам не знал, долго ли простоял так, — он почувствовал, что замерзает. Он взял тяжелый кошель, взвалил его на плечи и пошел с сеновала — очень медленно, как ходил мальчишкой, когда взрослые посмеивались над ним за то, что он боится темноты, и он выходил во мрак и заставлял себя не бояться, а сам чувствовал, что кто-то идет за ним, но пересиливал себя и не оборачивался.
Читать дальше





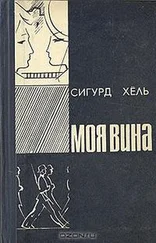

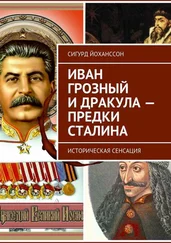

![Народные сказки - Заколдованный халат [Арабские сказки]](/books/393906/narodnye-skazki-zakoldovannyj-halat-arabskie-skaz-thumb.webp)
