Протянулась рука, пальцы, словно когти, схватили еду, в черных глазах затрепетало какое-то подобие жизни. И тут женщина вдруг выпустила ребенка, так что тот шмякнулся о землю, согнулась и набросилась на пищу. Она рвала лепешки, мясо и сыр, а ребенок лежал забытый у края дороги и хныкал чуть громче, чем прежде.
Ховард поехал дальше. Он услышал, как позади хлопнула дверь и затараторил возбужденный женский голос.
Теперь он знал, чт о ему напомнила эта нищенка. Не Туне — во всяком случае, не прямо ее, а сон о Туне, который приснился ему в одну из свадебных ночей. Об этом сне он до сих пор не вспоминал.
Сон был о Туне, но это была и Туне и не Туне. Ему приснился раненый олень в горах. Олень-Туне — оба образа слились в один — лежал с перебитым пулей хребтом и не мог шевельнуться. Мухи и слепни толстым слоем облепили рану. Она ничего не говорила, эта явившаяся ему во сне Туне, и лишь смотрела на него черными глазами, глазами, какие бывают у загнанного зверя, который давно смирился с судьбой и оставил всякую надежду.
Она, приснившаяся, ничего не говорила, но лишь смотрела на него, а потом взяла его нож — тот нож, что он дал ей в залог, его наследный клинок, — взяла нож и перерезала себе горло единым большим надрезом, так что голова запрокинулась назад и кровь хлынула потоком.
Странный сон. Ведь она, Туне, не так покончила с собой. Она бросилась в водопад. Бросилась в водопад холодным вечером в конце марта, через день после того, как получила его письмо. Бросилась в зеленую ледяную воду. Но нож — вернуть его она не забыла: отнесла старому Юну-учителю.
— Постарайся передать Ховарду…
И пошла в горы, и бросилась в водопад.
Ховард взялся за пояс. Нож висел на месте, в своих старых кожаных ножнах.
Этим самым ножом он перерезал когда-то горло подстреленному оленю. Было это много лет назад.
Когда ему приснился этот сон, Рённев разбудила его и сказала:
— Ты так стонешь во сне, тебе, верно, дурной сон приснился?
Он ответил только, что, видно, лежал неудобно — не на том боку, наверное. Было это под утро второй свадебной ночи, и уже начало светать. Он почувствовал на себе взгляд Рённев — беспокойный, испытующий. Но больше она ничего не сказала.
Он отогнал от себя эти мысли и стал раздумывать о нищенке. Он знал: теперь, в голодную весеннюю пору, десятки таких, как она, бредут по стране. Десятки женщин из множества хусманских избушек, где и летом и зимой редко едят досыта. Из жалких остатков ячменя, что были в доме, муж гонит самогон, и это приносит недолгую радость. Порой ему удается и продать несколько кварт — по шесть шиллингов за кварту, — тогда в семье появляется немножко денег. А потом оказывается, что нет ни посевного зерна, ни муки, и тогда жене приходится отправляться с протянутой рукой в селение, а ему — к хозяину, согнув спину, униженно выпрашивать еду и семенное зерно.
Случается, что, выслушав поток брани и назиданий, он получает то, что просил. Случается, что и ничего, кроме брани, не получает. Ведь бывает, что сам хозяин тоже съел или перевел на самогон свой ячмень…
Они, хозяин и хусман, приучились выпивать с мороза, возя на завод каждую зиму уголь и руду.
И вдруг Ховарду словно бы явилось видение, и он понял, что здесь ему суждено свершить дело своей жизни.
Он не знает, какой смысл в том, что судьба привела его сюда. Но знает, что в случае нужды сам подналяжет и повернет судьбу или хотя бы попытается.
Теперь-то я знаю, где надо подналечь, подумал он.
На него нахлынули видения, замыслы. Словно несомые тихим потоком, они долго копились в его душе, но какая-то плотина не давала им выхода, они все копились и копились, тихо и незаметно, и вот наконец теперь плотину прорвало, и они хлынули, обгоняя друг друга, — мечты, видения, замыслы.
Нурбюгда…
Голодные, согбенные хусманы и своенравные, самодовольные крестьяне, заносчивые, но тоже почти что нищие…
Он прожил в Нурбюгде недолго и знает о ней мало или даже, можно сказать, ничего. И все же ему вдруг показалось, что знает он ее вдоль и поперек, что никто не знает ее, как он.
Далекое, отрезанное от мира, окруженное на много миль лесами, селение это мало-помалу попадает в руки богачей из Кристиании, а крестьяне не могут этому помешать и даже не понимают этого.
Богатым помещикам, живущим в столице, уже принадлежит половина здешних лесов, а скоро они приберут к рукам и добрых три четверти. Только они имеют право пилить лес на доски. Они скупают у крестьян леса и древесину по той цене, что их устраивает. Крестьянам запрещается строить лесопилки — даже на собственной земле и даже для своих лишь нужд — или разрешается с условием, что они будут пилить только дрянные необрезные доски. Обрезные доски и бруски крестьянам пилить запрещено: на этом ведь деньги заработать можно.
Читать дальше





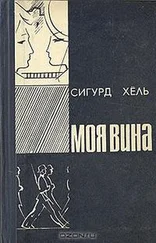

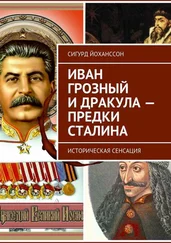

![Народные сказки - Заколдованный халат [Арабские сказки]](/books/393906/narodnye-skazki-zakoldovannyj-halat-arabskie-skaz-thumb.webp)
