* * *
Шон и Марианна вышли из палаты. Том а был уже здесь, он ждал их у двери. Родители Симона открывали рот, но не могли издать ни звука: казалось, они хотели что-то сказать, но слова не желали повиноваться; я вас слушаю, помог им Том а , я здесь именно для этого; и тогда Шон с трудом соорудил свой вопрос: сердце Симона… в тот момент, когда… скажите Симону, когда вы остановите его сердце, что мы здесь, рядом, мы с ним, что мы думаем о нём, наша любовь… И Марианна продолжила: и Лу, и Жюльетта, и бабуля; затем снова Шон: шум моря, дайте ему послушать, он протянул Том а плеер с наушниками, трек номер семь; всё уже готово: это чтобы он смог услышать море; какие странные мёртвые петли выписывал их разум; и Том а согласился выполнить все ритуалы: ради этих несчастных родителей он сделает всё.
Они уже собрались уходить, но Марианна обернулась в последний раз, посмотрела на кровать и застыла: Симон стал олицетворением одиночества; не человек — вещь; словно он освободился от своей человеческой сущности; словно больше не был связан с обществом, с его системой ценностей и палитрой страстей; словно больше не принадлежал ему, превратившись в абсолютную вещь; Симон умер. Марианна произнесла эти слова впервые — и пришла в ужас, не увидев рядом Шона; она бросилась в коридор и увидела мужа сидящим на корточках у стены; он тоже был ошеломлён одиночеством Симона и, несомненно, в этот момент тоже осознал его смерть. Она села на корточки перед Шоном, попыталась поднять его голову, положив руки под подбородок: пойдём, пойдём отсюда, и эта фраза означала: всё кончено, пойдём; Симона больше нет.
Зазвонил мобильный. Том а взглянул на экран и ускорил шаг, направившись к своему кабинету; ему захотелось броситься бежать со всех ног; Шон и Марианна, шедшие рядом, ощутили это ускорение, инстинктивно поняли, что сейчас произойдёт, и внезапно ощутили страшный холод; всё те же жаркие коридоры, иссушавшие их кожу и заставлявшие мечтать о воде, внезапно стали ледяными аллеями, и Лимбры снова застегнули куртки, подняв воротники. Тело Симона незаметно уберут; оно исчезнет в каком-то тайном месте, доступы к которому тщательно контролируются, в хирургическом блоке, на театре военных действий; его вскроют, изымут органы, снова зашьют, и через небольшой промежуток времени — одна ночь — они уже никак не смогут повлиять на ход событий.
Ситуация внезапно вошла в фазу цейтнота; напряжение, сковавшее их движения и жесты, отступило; оно больше не проявлялось в их сознании; оно скрылось совсем в ином месте — в помещении Координационного центра, где Том а Ремиж уже беседовал с врачом из Биомедицинского агентства; оно влилось в жесты санитаров, которые увозили тело их сына; спряталось во взглядах, анализировавших изображения, которые появились на мониторах; помчалось дальше, в другие больницы, в другие отделения, к другим таким же белым постелям, в другие, такие же подавленные дома, — и отныне родители Симона больше не знали, что им делать, они растерялись: конечно, они могли остаться в реанимации; присесть у столика, на котором лежали старые газеты и журналы с грязными загнутыми уголками страниц; дождаться, когда часы покажут 18:05 — конец второй ЭЭГ, которая официально констатирует смерть Симона, или спуститься в холл, взять кофе в автомате; они были свободны делать всё, что пожелают, но их предупредили, что изъятие всех необходимых органов займёт несколько часов; они должны это знать: это длительная процедура, всё не так просто, — поэтому им порекомендовали вернуться домой: возможно, вы могли бы немного отдохнуть, вам понадобятся все ваши силы, мы позаботимся о нём; и когда они снова миновали автоматические двери громадного нефа госпиталя, они были совсем одни в этом мире; усталость обрушилась на них, как цунами.
* * *
На закате она вышла из поезда RER на станции Ля-Плен-Стад-де-Франс и направилась в противоположную сторону от стадиона, куда обычно тёк нескончаемый людской поток, особенно плотный в часы перед матчем; поток, сплочённый коллективной лихорадкой возбуждения и предположений об исходе предстоящей игры; заготовленные кричалки и оскорбления, дельфийский оракул. Безразличная к этому давящему массиву, вне масштаба, она повернулась спиной к громадному голому зданию, такому же несомненно-нелепому, как приземлившаяся ночью летающая тарелка; ускорила шаг в коротком туннеле, пролегающем под железнодорожным полотном; затем, вновь оказавшись на свежем воздухе, поднялась по авеню Стад-де-Франс, преодолела двести метров, миновала гладкие, белые, металлические, прозрачные фасады офисов общественных служб, банков, страховых обществ и других организаций и, подойдя к дому номер один, некоторое время покопалась в сумке; в конце концов она сняла перчатки, чтобы удобнее было рыться; вытряхнула всё содержимое на ледяной тротуар перед входом; опустилась на колени, не обращая внимания на взгляд человека, находившегося внутри здания и с бесконечной осторожностью открывавшего бутылочку с йогуртом, стараясь не испачкать красивый тёмно-синий костюм; потом, каким-то чудом, она додумалась нащупать свою магнитную карточку в глубине кармана, собрала раскиданные вещи и вошла в атриум. Я на дежурстве, я врач Биомедицинского агентства, обратилась она к мужчине, не глядя на него, и с высокомерным видом пересекла холл; её намётанный взгляд выхватил пачку «Мальборо лайт» рядом с планшетом, небось, всю ночь смотрел фильмы, футбол и дурацкие передачи, подумала раздражённо; оказавшись на втором этаже, двадцать метров по коридору, дверь налево, она вошла в Национальный центр распределения трансплантатов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
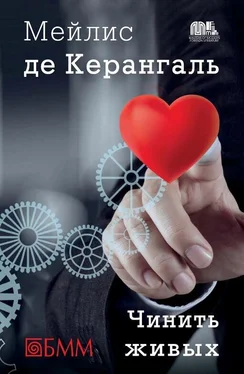
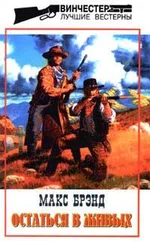





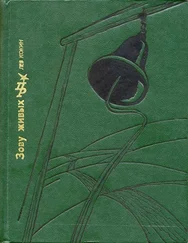
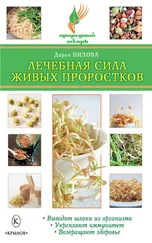

![Джон Макдональд - Оставшийся в живых [Меня оставили в живых]](/books/338424/dzhon-makdonald-ostavshijsya-v-zhivyh-menya-ostavili-thumb.webp)

