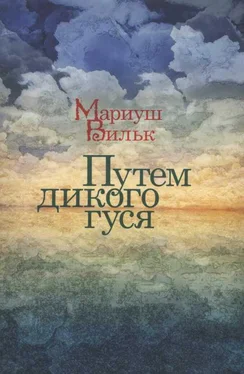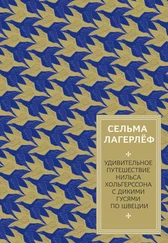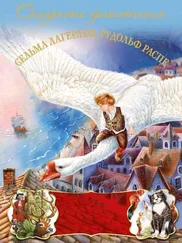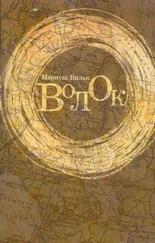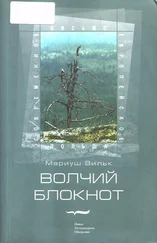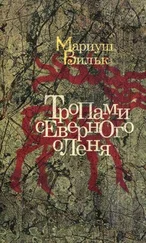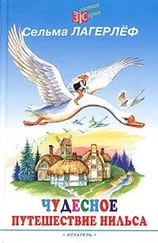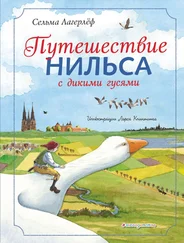Сегодня территория «Community of Mashteuiatsh» насчитывает полторы тысячи гектаров. Ее населяет почти пять тысяч индейцев. Не знаю, почему Кен называл их «иннут». Множественное число от «инну» — «иннус»! Некогда французы именовали их «монтаньяс» — «люди гор». Под этим именем они прежде всего и были известны. «Инну» — самоназвание (хотя я слышал также «илнус») и переводится просто — «люди». Подобным образом обстоит дело в языках других народов Севера — саамов, ненцев, айнов, эвенков… Словно они желают отграничить себя от прочих жителей пустынных северных пространств — карибу, медведей или волков — на равных правах! Для того, кому, подобно Кену, наскучили народы и государства, быть только человеком — неплохой выход.
— Я человек, а ты?
— А я француз.
Так могло бы выглядеть знакомство инну с первым французским китобоем или ловцом трески на берегу реки Святого Лаврентия в XV веке. Индейцы инну занимали тогда обширные территории от Северного побережья и долины реки Сагеней до Шеффервилла. На севере они мирно (так гласят устные предания) соседствовали с инуитами. Вели кочевой образ жизни, охотились на карибу и ловили рыбу. Далеко не всегда ели досыта. С белыми пришельцами поначалу жили в мире. Объединяла их торговля. Шкуры меняли на еду — главным образом муку. Она позволила им избавиться от призрака голода, вечного спутника «домучной эпохи». Отношения инну с белыми испортили христианские миссионеры. Уайт называет их «гарпиями». Я бы добавил: «милосердия».
Миссионеры с самого начала делали все, чтобы нарушить ритм жизни индейцев — изменить с кочевого на оседлый. Потому что понимали: свободного странника не так легко обратить в новую веру. Уничтожь ритм жизни, говорил Кеннет, и уничтожишь разум. Полностью оторви разум от ритма жизни — и человек поверит во что угодно. При христианских миссиях появились магазины, где всегда можно было купить еду — вне зависимости от удачи на охоте, — а также выпить, чтобы притупить алкоголем чувство вины по поводу открытых миссионерами грехов. По мнению Кена, это было начало конца. Оставалось лишь загнать краснокожих в резервации, где — благодаря жертвенности и трудолюбию праведных миссионеров — они могли благополучно и окончательно вымереть.
Сколько же я слышал об этих индейских резервациях! О чуме алкоголизма и наркомании, косящей остатки несчастных туземцев, о грязи, о болезнях и нищете. И вот вчера, подъезжая вечером к первой в моей жизни резервации, я был готов к худшему. Тем более, что в «Синем пути» Пуант-Блё тоже выглядит не слишком привлекательно. Кен добрался сюда пешком из Роберваля, посетил музей, прошелся по деревне и немного поболтал с местными жителями у магазина (где можно выпить), а потом той же дорогой вернулся обратно… индейцы жаловались на качество продуктов, мол, курица, к примеру, — сплошная вода и химия, поэтому иммунитет снизился, они постоянно болеют, к тому же им не хватает движения — жизнь теперь не та, что прежде, ведь они постоянно сидят перед телевизором. Но больше всего меня удивило их утверждение, что Кен — больше индеец, чем они сами.
Добраться до Маштейяташ было непросто. Дорога к деревне отходит от автострады 169, указателя нет. Так что мы ехали наугад, надеясь, что раз резервация называется «Точка, с которой видно озеро», то мы найдем ее на мысе за Робервалем, который виден издали. И не ошиблись! Четыре мили гравия — и мы у цели. Поскольку уже темнело, прямой дорогой отправились в кемпинг. На ресепшн нас встретили молодые инну. Алкоголем от них и не пахло! Мы сказали, что прибыли по следам шотландского писателя, который побывал у них более двадцати лет назад. Они удивились, что белые еще не забыли об индейцах, после чего записали нас в книгу гостей и предложили дрова для гриля. Пять долларов вязанка.
Устраивались мы уже в темноте — в снопах света нашего «форда». В кемпинге было многолюдно. На пронумерованных участках стояли огромные кемперы с выдвижными сегментами (словно ящики комодов), верандами и пластиковыми заборчиками. Освещение, канализация — все, как положено. Засыпали мы в облаках дыма от грилей.
На восходе кемпинг в Маштейяташ напоминал огромное кочевье. Кое-где еще дымились вчерашние костры, тут и там хлопотали заспанные туристы. Разве не парадокс, — подумал я, дожидаясь, пока заварится зеленый чай, — что прежние белые поселенцы сегодня неустанно кочуют, а вчерашние краснокожие кочевники сидят на месте, заботясь об их комфорте? Вот уж правда — изменчивая современность…
Читать дальше