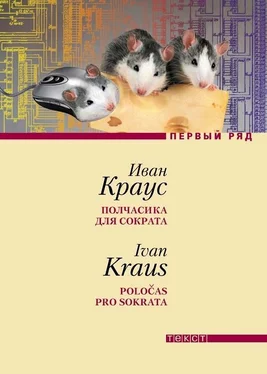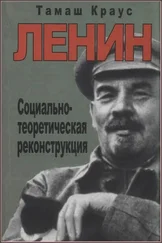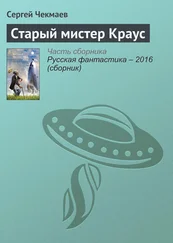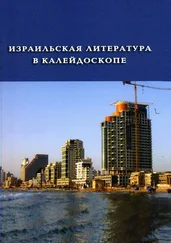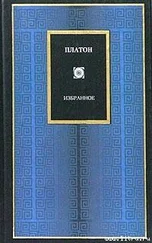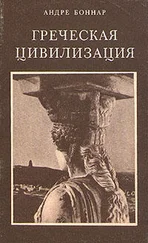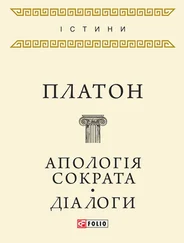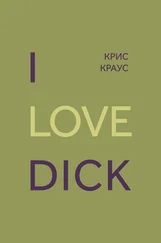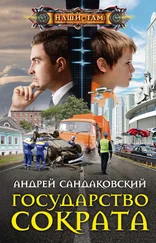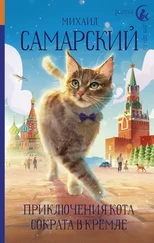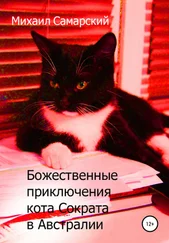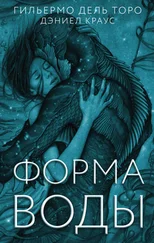А теперь дождитесь, пока на моем аппарате услышите, наоборот, два длинных сигнала и один короткий.
Повторяю: два длинных и один короткий.
Вы можете говорить двадцать секунд.
Если вы не уложитесь, вы услышите один длинный низкий сигнал и три высоких коротких.
В таком случае дайте отбой, наберите снова мой номер, выслушайте данное сообщение и оставьте свое.
Можете говорить.
Говорят, перевод — что жена: верная и некрасивая или красивая и неверная. Одна немецкая переводчица убедила меня, что могут быть и другие варианты. Ее перевод не был ни верным, ни красивым. Герой имел мало общего со своим оригиналом. На мои возражения она отвечала одно и то же:
«Немец так никогда не скажет».
«Это немецкому читателю будет странно».
«Нечто подобное он не поймет».
Я твердил, что перевод появляется для того, чтобы произведение приблизило читателю жизнь и атмосферу той страны, о которой пишет автор. Переводчица не соглашалась. Она настаивала на полном онемечивании героя. Она желала, чтобы герой вел себя так, чтобы стать близким немецкому читателю. Ему требовался вид на жительство, решение о получении которого выносила за читателей она. Только после этого он осмелился бы перейти воображаемую границу и постучать в двери какого-нибудь немецкого издательства.
А профессорше, которая просматривала французский перевод, не понравилось, что персонаж, цитируя философа, говорит на литературном языке, а в жизни пользуется разговорным. Она утверждала, что это нелогично. Таких людей во Франции нет.
— А в Чехии есть, — возразил я.
Она заявила, что во Франции человек относится или к народу, или к интеллектуалам. Сообразно этому он и изъясняется. Я заметил, что в Чехии необязательно так еще и потому, что профессорам в прошлом нередко приходилось зарабатывать на жизнь, подметая дворы и моя окна.
Не по вкусу ей было и то, что герой ест свинину. Она предложила курицу. Когда я не понял почему, она напомнила мне, что во Франции, как мне хорошо известно, свинину почти не едят.
— Да ведь он-то живет не в Париже, а в Праге, — возразил я.
Хотя я знаю, что французы предпочитают то, что легко переваривается, мне все же пришлось обратить ее внимание на то, что мой текст — это не перечень блюд. Но она настаивала на французском меню. Мой литературный эмигрант не имел права на кнедлики с капустой.
Это так на меня подействовало, что я отстаивал кнедлики изо всех патриотических сил. Меня возмутило, что мой герой должен вести себя то как немец, то как француз, в то время как он был чехом. Меня не устраивало, что оригиналу предстояло стать бледной копией и потерять свое собственное лицо.
Я представил себе Швейка, который бы говорил на литературном немецком и вел себя, как налоговый инспектор. В английской версии он бы ходил не в пивную, а в паб. Во Франции ему пришлось бы по пять часов сидеть за обедом, как тут водится, так что поручик Лукаш, скорее всего, никогда бы его не нашел. А в Америке он, надо думать, ел бы не сардельки, а гамбургеры и крал бы не собак, а коней, как и положено в стране с ковбойскими традициями.
Я сказал профессорше, что если бы мы предприняли ответные меры, как это практикуется в экономике между правительствами разных стран, то в чешском переводе Сирано и Роксана встретились бы, не дегустируя паштеты, а пробуя кровяную колбасу. Она заявила, что это было бы большой ошибкой.
— Почему же это чешский герой должен приспосабливаться к французским традициям, а французский к чешским — нет? — удивился я.
Применив французскую логику (основной закон которой заключается в том, что в случае необходимости она становится нелогичной), она дала мне понять, что Сирано является классическим литературным героем. Я защищал Швейка, который тоже им был. Верная основному правилу французской интеллектуальной психологии (которое заключается в том, что в случае необходимости можно уйти от любой темы), она заявила, что Швейк — это нечто иное. Я потребовал объяснений. Она прибегла к самому распространенному трюку французской тактики и ответила так, как принято у французов, когда они не могут отстоять свое мнение: «Потому что».
Это лишь укрепило меня в решении противостоять литературному насилию.
Если большие народы могут экономически давить на малые, а то и оккупировать их, в литературе у них этого права нет. Пусть даже нам придется ради этого возводить баррикады из машинок и компьютеров, размахивая вместо флагов писчей бумагой. Если здесь и существует что-то вроде права сильного, то у чешского языка оно, бесспорно, есть. Хотя в мире об этом вряд ли знают, так как сила языка измеряется скорее количеством людей, говорящих на нем, чем его богатством, которое, как известно, подсчитать нельзя.
Читать дальше