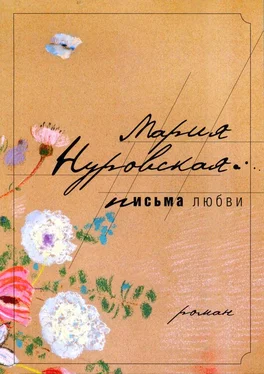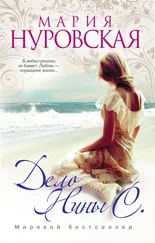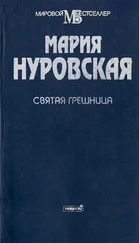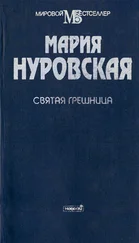Я принесла из ванной тазик с водой, потом сняла с нее рубашку, намылила губку и начала обмывать тело Марыси. Выступающие ребра, впалый живот, острые кости бедер.
Слезы лились из глаз, перемешиваясь с водой и мылом. Можно сказать, что я омывала тело Марыси своими слезами.
Продолжая плакать, я достала из шкафа платье, которое когда-то дала мне твоя мама. Синее с белыми воротничком и манжетами. Я носила его вместо Марыси, а теперь вот одеваю в него Марысю.
— Уже никто не будет смотреть на тебя такую, — говорила я как в лихорадке. — Уже никто тебя не обидит.
Михал хотел сразу отправиться в свою комнату, но я его задержала.
— Не ходи туда, — сказала я, непроизвольно понижая голос.
— Мама спит? — спросил он.
Я обняла его и посадила на топчан.
— Михал, — проговорила я, — твоя мама умерла.
Сначала мне показалось, что он ничего не понял, а потом у него задрожал подбородок, как в детстве, когда он старался сдержать слезы. Мы сидели так, поддерживая друг друга…
Часы пробили два. Прошло два часа нового дня, который мы должны были прожить без нее.
Август 57 г
Итак, Анджей, мне тридцать два года. Мы с тобой еще вместе. Собираясь продолжить эти письма, я задумалась: что они для меня значат? Я возвращаюсь к ним редко, однако они как бы вытекают одно из другого, составляя целое повествование нашей жизни. Я по порядку рассказываю, что мы пережили вместе, что пережила я. Думаю, эти письма для меня — как ширма, за которой я могу раздеться донага. Дело не в том, что ты не знаешь каких-то фактов. О другом человеке невозможно знать все, это было бы ужасно. Обман — своего рода защитная оболочка, оберегающая живое. Без нее жить невыносимо. Я не стремлюсь себя оправдать, знаю, что в нашем случае речь идет не о мелком обмане, а о большой лжи. Я ношу ее в себе как острый, болезненный шип, с которым научилась жить.
В тот день после похорон Марыси мы вернулись домой. Михал непрерывно плакал, ты даже сделал ему укол, после которого он заснул. Я сидела рядом, держа его за руку. Михал постоянно повторял, что не был достаточно добр к маме. Его мучили угрызения совести. Я позволила ему выговориться, пока он не уснул. Посидев с ним еще немного, я отправилась к нам в комнату. Ты сидел за столом, глядя в одну точку. Я знала: ты чувствуешь то же самое, что и Михал. Молча достала бутылку водки и налила в рюмки. С утра мы ничего не ели, поэтому быстро захмелели. Заплетающимся языком ты рассказывал глупейшие анекдоты, а я буквально лопалась от смеха.
— Приходит баба к доктору и говорит: пан доктор…
— Дохтор, — поправила я.
Представляю, что могла подумать праведная семья портных, слыша сквозь тонкие стены наш смех. К тому времени только они остались в нашей квартире. Странная семья переехала, и пан Круп занял их комнату под мастерскую. Мы не возражали, ведь у него была большая семья, которая и составляла основную погребальную процессию, следовавшую за гробом Марыси. Из ее родственников приехала только та самая сестра из Кракова. Ее муж остался с детьми, потому что старшая дочка болела ангиной. Из твоей больницы не было никого, но в газете «Жыче Варшавы» я прочитала:
«Доктору Анджею Кожецкому выражаем соболезнования в связи со смертью жены Марии.
Коллеги».
— Жены Марии, — повторила я, имя было здесь обязательно.
И еще были строчки:
«Доктору Анджею Кожецкому выражаю искреннее соболезнование в связи со смертью жены.
Ядвига Качаровская».
Интересно, не она ли тогда звонила? Если да, то «искренние соболезнования» были неуместны, а вот отсутствие имени жены — наоборот.
Итак, мы напились. Начали бегать по комнате, я что-то спрятала, ты хотел у меня это отобрать. Неожиданно у меня подкосились ноги, и я рухнула. Ты оказался рядом со мной на полу. Я видела твое лицо, но оно немного расплывалось. Все вокруг было нечетким. Я почувствовала твои руки у себя на бедрах, ты поднял мне юбку и, прижимаясь щекой к моему животу, зарыдал. Я понимала, что ты выплакиваешь свою боль там, где всегда искал убежища. Но с этой минуты началось наше возвращение друг к другу. Вернулись наши ночи лихорадочной, ненасытной любви, как будто мы старались наверстать ушедшее время. Смерть Марыси всех нас сблизила. Изменился и Михал, ему необходимо было перед кем-то раскрыться. С волнением я выслушала его рассказ о первой несчастной любви к однокласснице. К сожалению, она была на два года старше и смотрела на него свысока. В свои четырнадцать лет Михал вытянулся и был одного со мной роста, но ужасно худой. От этого руки и ноги казались слишком длинными. Под носом у него появился пушок, голос ломался. Он безвозвратно расставался с детством, и это переполняло меня грустью. Я так его любила, когда он был ребенком…
Читать дальше