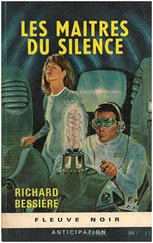Я снова открыл глаза. Сестра смотрела на меня прищурившись, стараясь угадать, во власти чего я находился, ожидая возможности снова заговорить. И не столько потому, что испытывала безумную потребность говорить, сколько потому, что мы оба были существами, чьи тела требовали, более чем у других людей, промежуточного или побочного удовлетворения, ставшего для нас главным, – разговоров, привычных процедур, определенной пищи, хорошего вина, красивого языка, отказа от вульгарности. Это было главным, поскольку наше уродство предполагает, словно знак судьбы, что мы должны быть вульгарными, злыми, беспокойными, обреченными жить более достойно и более скрытно, чем остальные люди.
Здесь я открываю путь разбитого стекла. Боюсь, что такое количество парадоксов может привести к тому, что меня неправильно поймут. Уродство сделало меня требовательным. Ненавидя его в себе, я тем более не выношу его в других, оно возмущает меня больше всего, особенно в женщинах. Я старался не стать еще более уродливым, избегал общества красивых людей, не прибегал к бог знает каким уловкам, чтобы стать другим или незаметным, как советовала мне одна из моих любовниц. Она была одной из немногих, кто изъявил желание навсегда остаться со мной, поскольку другие знали, что они были в моей жизни временно. А эта женщина решила, что сможет меня изменить, конечно же не путем косметической хирургии (я никогда не думал к этому прибегать, слишком рано поняв, что хирургия, изменив мое лицо, приведет к хаосу в голове), заставив меня похудеть, посещать парикмахера, магазины, куда я никогда сам бы не пошел. Несомненно, благодаря именно ей я стал менее отталкивающим, хотя и отказывался от много, ею предложенного. И случилось так, что я стал считать себя красивым, принимая таким, какой я есть.
Настала пора описать себя, чтобы люди наконец знали, как я выгляжу. Сейчас шесть часов утра. Я нахожусь дома, на улице Корней, и стою перед зеркалом. Меня восхищают автопортреты художников (это – единственное, в чем им завидую я, который мог бы стать писателем) Рембрандта, Шардена{ Шарден, Жан Батист Симеон (1699–1779) – французский живописец, который сознательно избегал торжественных и пасторально-мифологических сюжетов, свойственных искусству XVIII в. Особый интерес представляют его пастельные портреты, исполненные на склоне лет.}, Гогена, Бэкона{ Бэкон, Фрэнсис (1909–1992) – английский художник-экспрессионист.}. Изучение самого себя, как экзорцизм и глубокое знание, далекое от всякой самовлюбленности и позирования. Очень немногие писатели сумели без прикрас описать свой внешний облик. Исключение составляют Монтень, Руссо, Амьель{ Амьель, Анри-Фредерик (1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист, писал на французском языке.} или Лейрис{ Лейрис, Мишель (1901–1990) – французский писатель и этнолог, был близок к сюрреалистам.}. И эти примеры меня подавляют. Солнце еще не осветило цинковые крыши, все тихо и находится в ожидании жары, которая исказит лица и тела, заставит их укрыться в полумраке комнат. Чистый и беспощадный свет. Несчастный парень, склонившийся над листом бумаги. Небольшое существо, втиснутое во временное тело. В этих утренних летних моментах есть что-то искупительное. Всякий раз, когда наступает рассвет, я становлюсь ребенком, который борется сам с собой. Мне хочется кричать от радости, а потом я снова становлюсь тем, кто я есть. На моем рабочем столе я поставил маленькое зеркало, я обычно им пользуюсь, когда бреюсь посреди салона, куда никто никогда не приходит. Разве что только сестра, навещающая меня раз в неделю, чтобы убедиться, что я жив. Элиана настаивает, что неубранная квартира – признак морального упадка наравне с небрежностью в одежде, неухоженностью тела и, конечно, избыточной фамильярностью в разговоре.
У меня слегка перекошенное лицо, похожее, как когда-то шептались школьники в Сьоме, на необработанное полено или плохо вырезанное сабо. Тех школьников больше нет, Сьом превратился в мертвый город, но у меня по-прежнему все та же рожа, узкая, даже худая до двадцатилетнего возраста и ставшая спустя три десятилетия еще больше похожим на плохо выструганное поленом: все это может испугать из-за некоторых увеличенных деталей лица – толстые губы, маленькие глаза, большие нос и уши, чрезмерно густые брови. Нечто внушающее беспокойство. Спорт я ненавижу, и поэтому мое тело округлилось, правда в разумных пропорциях. Я бы сказал, что у меня несколько недоделанный вид, работа природы была прекращена в тот момент, когда закончилось мое детство, а потом была наспех завершена. Я был наброском, из которого картину так и не написали. В четвертом классе колледжа Бюига преподаватель истории процитировал нам слова Дантона, которые тот произнес перед тем, как положить голову на гильотину: «Палач, покажи мою голову народу, она стоит того!» При этом он повернулся ко мне, что сделал непроизвольно, мне так хочется думать, вызвав хохот класса. И я сам смеялся, потому что еще не понимал, вернее, не хотел понимать. Я представлял себя таким же страшным, как этот Дантон, чей портрет действительно заставлял вздрогнуть и чье уродство стоило ему гильотины. Именно так я и думал и тоже считал себя виновным в том, что я такой, а любой урод всегда стремится найти кого-нибудь более безобразного, чем он. Поиск худшего, чем ты, – единственный способ продолжать жить несмотря ни на что, в этом братстве уродливости, объединяющем Дантона, меня и всех обделенных красотой людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу