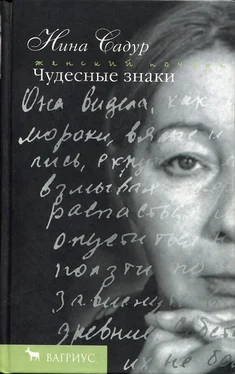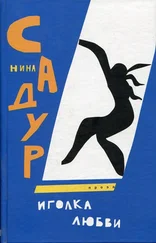Бабенка сама собой хорошела, любима была невозможно. И хоть ничтожная, но здесь была бабенка прелести исполнена невыразимой. Оттого, что здесь. В особом месте. И чувство втащили сюда так же незаконно, как клочок бумаги в кулаке. Отдаленная мелькнула догадка: «Вот, значит, как. Некоторые ничтожества… после смерти незаменимы». Со стороны сухими, злыми глазами все равно виделось: «Бабенка шлюховатая, с востреньким, мокреньким носиком, жидкобровая, и тонкие губы в морковной помаде». Ясно было, что подобрана где-нибудь в Твери на липком простуженном вокзале. Рожица бабенкина перемазана дешевым вином, на субтильном тельце зажелтевшие (давно били) потеки от сапог, и одета она в грязный синтепон, в рваные чулки, разбитые мужские кроссовки. В простодушии своем не понимает совсем ничего: ни того, что умерла, ни того, что любима. Сжимается под взглядами, поднимая плечи, робко оглядываясь, за кем допить, доесть, и где менты, и где опасность? Что? Как? Каким таким образом могла случайность такая втиснуться в жизнь Ирины Ивановны, и ведь властвовать! Ничтожная бабенка мучила, топталась, вульгарная, на этой надземной лужайке, простенькие цветочки сшибала размокшими кроссовками и хрипло кашляла в кулак… И Ирина Ивановна бессильно ломала руки — бабенка была несокрушима, бабенкина сила — мощна! Потому что бабенку любили! А боль— вся красивой Ирине Ивановне. Хотелось в исступлении заломить руки, вознести вверх, но выше уж некуда. Хотелось хулить судьбу, но вся судьба уже кончилась. Хотелось горячо торговаться или затоптать, прогнать бабенку, пугнуть милицией, подкупить пятаком… Глупостей живых наделать. Подтолкнуть бабенку к пропасти плечом. Погубить. Поцарапать.
«Счастье, что все мы мертвые! — решилась подумать Ирина Ивановна, но тут же удивилась сволочной повадке местных: — Взяли ведь, нашептали про бабенку, не лень им!»
Будет катастрофа, когда бабенка встретится с ним глазами. И все поймет.
Ирине Ивановне хотелось подойти к нему, начать хотя бы издалека: «Как попал сюда. То да се…» (Наконец-то Он обнаружился — вон там вон, примерно в той вон серенькой тени Он стоял вполоборота, как все тут.) Она и подходила, виноватая, бледная, сминая бессильные цветочки.
…Через плечо глядел на Ирину Ивановну, довольно ласково, из вежливости вздох тяжелый подавляя, по милому характеру своему стоял рядом с постылой Ириной Ивановной, жаждал улизнуть, не смел, добрый, хороший, в чистенькой рубашке, такой сдержанный, как всегда, поражала родинка в яремной ямке. Крошечная, пунцовая, она доказывала — Ирины Ивановны он! Ее одной. Навек и весь. И он даже тепловато располагался, поближе к влюбленной, и смеялся ее шуткам, и глаза — в глаза. Но насчет бабенки был непреклонен. Рванись Ирина Ивановна — и жестоко оттолкнет.
«Как фантастична твоя душа. Неразгаданна осталась. А как хорошо было в те синие предрассветные сумерки, когда мы с тобой познакомились. И особенно нравилось, опережая погоню, врываться ногами вперед в окна. Веселили взрывы стекол. Какой восторг — лететь в потоке стекла! Сидели мы, сжавшись, в чужой квартире под самым подоконником, сдували свист погони. Мимо! Восторг! Взял, чтоб еще сильнее все чувствовать, повозил рукой в битых стеклах. Кровь еще больше взбодрила, красивая. А потом ночная вода, берега. Рыжий какой-то, отчаянно ветреный остров, выгоревший аж в начале лета, зачем-то пустые ныли качели на ржавых цепях. Любовь и земля. Ах, не понять ничего!
Никогда, никогда не привыкнуть, что вода отражает все небо».
И вот этим делясь с мужчиной (на самом деле удивлением пред неразгаданностью земли: там, там, внизу, там сейчас солнце и свет невозвратный), Ирина Ивановна все хотела хоть потереться щекой о плечо его, хоть вялый, мокрый, бесчувственный поцелуйчик выклянчить. И смогла бы!
Но тут бабенка заговаривала напевно: «А знаете вы, что он теперь мой, со мной, мой! Если взять моих крестьянских предков. Не увечных, а пшеничных. По всем признакам той вразумительной жизни мне полагается прочная любовь, плечо, семья, тугое сердце верного супруга. Просто все переломано, все так переломано многажды. Отражается-то она, отражается, но как-то сикось-накось, криво там все, перекручено, заморочено. А могло так быть, у всех-превсех так быть хорошо и достойно. Запоздалое здесь сожаление. Правда, здеся дают по уму, по достоинству». И, кривенько побежав-побежав, обежав всю Ирину Ивановну, огромной чавкая обувкой, голосить принималась: «Пунцовую любя родинку крошечную, прелестную в яремной ямке, ты не умиляйся-ка! Ты нежность даром выплескиваешь. Усмехнется он, нехороший, не твой. Хоть истай, истомись, выплачь синие ты глазыньки — еще больше надуется спесью, целомудренный, отвороченный. Скажи, какая огромная, какая невыносимая любовь?» И, видя, что никто не перечит ей, что безветренный, стоялый воздух она одна сотрясает, надувала грудь колесом и орала вообще громкоголосо: «А уж били нас прямо с прадедушки. Что наши деревни низенькие, тихонькие, лыковые, латаные, что так их озверили-то? И уж по краям России, и в землях дремучих, бросовых, гиблых, и огоньки слабенькие, кое-как, а ведь на ж, поди — ярость лютую на русоголовых нас. Мы же думаем медленно. Пока смекнем, нас уж пожгли, поувечили. Мы ближе всех людей к хлебу. Поэтому? Мы ближе всех людей к земле. Поэтому? Но ведь мы же крестьяне. У нас в темных избах в углах золотые иконки жили. К нам скворцы прилетали. В сени — ласточка. Поэтому? За веселого гармониста? За девушек-босоножек? Молоко и хлеб у нас. Мед у нас. Пчелка могла ужалить. Жучка натявкать на сапог комиссаров. Поэтому? Хорошо это — деда с печки согнать на мороз? Хорошо?! Младенцев крестьянских в сугробы выбрасывать? Мужиков распинать на столбах придорожных. Хорошо? Им же землю пахать. Не подумали. Все в разор. Все дотла. Чтоб забыли названия деревень своих. Чтоб погибли зачем-то. Я в итоге такая. Вот, я даже не знаю, откуда взялась. Где я родилась. Я только догадываюсь — хлеб, молоко. Где деревня, где мой дедушка? Матушка где моя? Хмурые сильные братья? Строгий мой тятенька где? Вот что со мной сталося. Вот, даже нога у меня короче, и глаза по-разному вертятся. Да и вся я наперекосяк».
Читать дальше