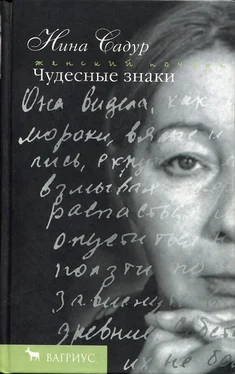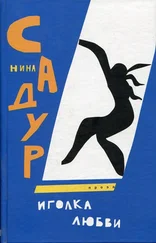Дырдыбай не знает, что он дворник из РЭУ-5 Дырдыбаев. О Аллах, забрось ты меня в душный твой занебесный гамак и раскачай через весь город от Беляева аж до Коровина-Фуникова. Пусть люди думают: то буран закружил всю Москву, закружил, заслепил, опять вон дворник Дырдыбай деревянной лопатой скребет и скребет, нежный холод ссыпая в сугробы. А это я в гамаке белокипящем, Аллаховом проношусь мимо окна Белобуранки, мимо окна ее, мимо окна ее! Удивится она, заахает!
Снега нападало на пустырях Беляева. Красиво стало, спокойно во все стороны, аж до завода. Светло даже ночью от снега в Беляеве. Все уснуло в Беляеве, даже воздух высоких домов стал тихим. Дырдыбай идет, потихоньку лопатой скребет своей деревянной: вбок, вбок лопатой снежок отбрасывает. Вдруг вздрогнул и замер, вцепившись в лопату. Постоял, привалясь к ней, и понял ненужность лопаты, тихонько повалил лопату в снег. Снег вздохнул везде, аж до завода. И тихонько вперед шагнул Дырдыбай. И склонился Дырдыбай, в ужасе думая о безбрежном и белом, что сияло, смеялось во все стороны света Беляева. Но смекнул, вдруг смекнул! задрожал от надежды, пополз, очертил пальцем круг вокруг ее ножек смешливых таких, прохладных таких, чтоб стояла она нарядная, гордясь собою, любуясь в шубке своей, белобуранная вся, чтоб в круге стояла она, а Дырдыбай лежал бы и никого не пускал бы, а безбрежное белое отступило бы. Но еще сильнее придумал! — сам вступил в круг к ней, как в зеркало, наконец он вступил к тому незнакомцу знакомиться, наконец-то! а она, все поняв, отступила немного назад, не жадная, открыла два своих голубоватых маленьких следа потрясенному Дырдыбаю, потрясен был Дырдыбай, и в каждый голубоватый маленький след он осторожно втиснул по ступне своей.
А она и говорит: «И все равно, Дырдыбай Бдурахманович, я, Белобуранна Ивановна, разговаривать с вами буду только так!» Прыг из круга с деревянной лопаткой облегченного типа на плече ее белобуранном и пошла, пошла, прохладная такая, смешливая такая, такая легкая, такая «Ы». Навеки. До самого края.
И тогда в Аллаховом гамаке прорвалась ячея, и полетел из нее черный от страха человек, полетел, кривя рот в немом крике, рассекая воздух от неба и до земли, и упал в самый центр маленького круга, упал на два голубоватых следа, упал Дырдыбай горсточкой мускулов, косточек, осколками коричневых глазок. И ни одного крыла. И качался гамак Аллаховый, жасминный, опустевший, и виделось в ячеи его синее небо, а вся Москва думала: какой буран!
И вот за то, что той, аж той еще зимой, подойдя в бездумье к группе незнакомых молодых. За то, что высмеивала на ветру любовь. Лежит этот юноша, спящий, лениво, доверчиво разметавшийся, россыпь родинок на груди у него, как пересмешка звезд, гладкая шерстка на груди у него, как темная птица, розовое дыхание у него и тень от ресниц у него. Не превозмочь. Вот я поняла, поняла — рыскать мне, окаянной, метаться, отторгнутой. Ты, черная гадина, отемнил меня всю! И должна я пробраться, проползти до двери, и я проползла, добралась до двери, где ты уже скребся, хрипел и звал меня жалобно, и открыла дверь тебе, Дырдыбаю чернообразному, и мы с тобой кивнули друг другу, и, вползший, ты просил помочь доволочь тебя до юноши, и я помогала тебе, и проволоклись мы к юноше спящему, лениво, доверчиво разметался он, и я сказала тебе: «Давай же раскроем грудь ему и посмотрим, что там?» — и ты закивал, закивал, заблистал всем лицом своим темным. Минуту мы медлили, не смея тронуть его, но вот оба бросились разом и погрузили когти в грудь ему и, ухватив за края, стали раздвигать захрустевшую грудину его, легкий вздох удивления из уст умирающего, но мы раздвинули горячую грудину его, чтоб посмотреть, что в груди у него. Раскрыли ее совсем. И там ничего не было. В груди его. Ничего. Одно молоко. До самого края груди его молоко. Он был не тот. Он был просто сын мамы.
И завыли мы в тоске своей и ярости и, слипаясь от молока груди мертвеца, вцепились друг в друга мы, чтобы пожрать, как гад гада, и катались в корчах отчаяния и гнева, дымно-зеленые твари две, с синими и золотыми разумными глазами мы.
Я ненавижу раннее утро. Господи Боже мой, как же я его ненавижу. Утреннюю смуть. Ненужный этот, дрожащий час. Нищую промозглую пустоту за окнами, простор, простор до края, до мутного неба, до завода. Поземку понизу и дым из завода. Как будто все в мире умерли, а я опоздал. Проспал.
Ненавижу: метро, автобус и свою работу. Медбрат я. Я брат болящих в грязной, заразной, злой районной больнице. Уж болящих-то я ненавижу-то. Бог ты мой! Они воняют, кряхтят и умирают. Все время. У них рубахи на слабых телах, а на рубахах синее тавро больницы. Они льстиво заглядывают вам в глаза и ничего не прощают. Ваших быстрых движений. Здорового смеха. Даже когда глаза их клянчат. Их черные, дышащие смертные зрачки дрожат от жалости к жизни. Они уже немножко не в ней, и им ее жалко. Не выразить! Их относит, оттягивает неумолимо от нее, от милой, теплой, от золотых деньков-пустяков, не сильно, но неостановимо вглубь, туда, низко, где не видно. Намокают одежды их, тяжелеют тела их, ноют жилы и спать хочется. Но не уснуть пока что, золотые позванивают деньки дорогие там, наверху, где все вместе, а здесь тянет, утягивает, неумолчно нашептывая: «Болит у тебя все. Болит». Закончите же эту муку мою? Зачем же так длить разлуку. Мрака дайте тогда! И сразу!
Читать дальше