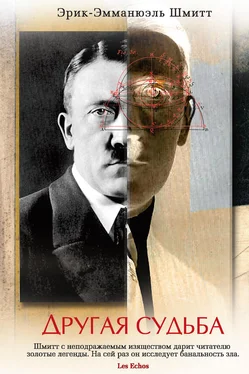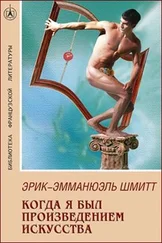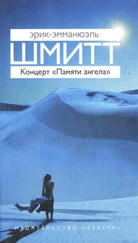– Да, потеоретизировали, и хватит, – согласился Нойманн.
Они втроем протиснулись к выходу и отправились в аптеку близ Елисейских Полей, где Нойманну оказали первую помощь.
– Удивительно, что тебе интересны мои новые друзья, – сказал Адольф Нойманну. – Эти споры об искусстве в принципе должны казаться тебе пустыми.
– Бретон – член коммунистической партии, – сказал Нойманн с некоторым смущением, – и другие сюрреалисты тоже.
– Вот как? – удивился Адольф – для него это был очередной сюрприз.
– Да, говорят, есть связь между высвобождением воображаемого и освобождением эксплуатируемых классов.
– Да неужели? – скептически хмыкнул Адольф.
Нойманн покинул их, отправившись к любовнице, у которой он обретался с тех пор, как в жизнь Адольфа вошла Одиннадцать-Тридцать, а сам он практически отказался от живописи ради политики.
Одиннадцать-Тридцать с Адольфом решили вернуться на Монпарнас пешком.
– Скажи честно, Одиннадцать, ты принимаешь их всерьез?
– Кого?
– Сюрреалистов.
– Поосторожней, дружок. Ты ведь тоже из них. Сюрреалист по разделу живописи. С Максом Эрнстом, де Кирико, Дали и другими. Кстати, с тех пор как об этом знают, ты продаешь немного больше, чем раньше.
– Одиннадцать, я серьезно. Что ты о них думаешь?
– Живо, шумно, молодо.
– Глупо.
– Да. И очень весело.
– Тебе этого достаточно: «очень весело»?
Адольф сказал это резко, сорвавшись на крик. Обернувшись, он увидел, что глаза девушки наполнились слезами.
– Да, мне достаточно, веселиться – это очень важно.
Она не смогла сдержать рыдания.
– Одиннадцать-Тридцать, что происходит? У тебя нет никакой сенной лихорадки. Что тебе сказал этот ясновидящий?
Она отвернулась:
– Сказал то, что я и без него знала. Но лучше бы обошлась без подтверждения.
– Что?
– Что я долго не проживу. Не дотяну до тридцати лет.
– Полно, что за вздор! Как ты можешь верить…
– Ба, я это узнала еще в детстве. Одна цыганка нагадала мне по руке. Потом я сама прочла это по картам. А мсье Жакоб увидел то же самое в кофейной гуще.
– А я вижу на своей подметке, что дам хорошего пинка под зад этому мсье Жакобу!
Он обнял Одиннадцать-Тридцать, поднял ее – легко, как ребенка, и приблизил ее лицо к своему. Они потерлись носами.
– Я не желаю, чтобы всякие предсказатели пудрили тебе мозги. У тебя крепкое здоровье, и ты проживешь очень-очень-очень долго.
– Правда? – спросила Одиннадцать-Тридцать, широко раскрыв полные надежды глаза.
– Правда.
Лицо Одиннадцать-Тридцать просияло.
– И мы состаримся вместе, – добавил Адольф.
– Правда?
– Правда.
Одиннадцать-Тридцать обхватила руками плечи Адольфа и облегченно расплакалась, уткнувшись ему в шею:
– Ах… как я счастлива… я была глупа… ты меня успокоил… я знаю, что ты прав.
Адольф вздрогнул. Вложив в эти слова всю силу своего оптимизма, он вдруг почувствовал, с такой же силой и совершенно непостижимым образом, что прав был, скорее всего, маленький мсье Жакоб.
* * *
Поющее дерево. Массивным сложением, цветом, неподвижностью, отсутствием выражения человек походил на пень, однако лицо пересекала горизонтальная щель, словно зарубка от топора, и из этой щели лилась мужественная песнь, наполнявшая летнюю гостиную.
– Боже всемогущий, услышь меня. Не отнимай силу, которую Ты чудом даровал мне. Ты сделал меня могучим, Ты дал мне верховную власть, Ты наделил меня чудесным даром – светить тем, кто ползает, поднимать то, что рухнуло. Твоею силою я превращаю унижение в величие, великолепие и мощь.
На большой вилле с видом на Альпы публика благоговейно внимала вагнеровскому тенору, исполняющему молитву Риенци. Все зрители слушали одну и ту же арию, но каждый слышал свое. Бехштейны, хозяева виллы и знаменитые фабриканты пианино и роялей, убеждались в мягком звучании своей последней модели, Винифред Вагнер открывала для себя эту оперу, которую никогда не ставила в Байройте, а Адольфу Гитлеру казалось, будто исполнитель в полный голос озвучивает его интимный дневник.
Тенор закончил и был удостоен сдержанных аплодисментов высшего общества на отдыхе; Гитлеру же хотелось перекреститься. Вагнер стал для него религиозной музыкой, его личной литургией, и он ходил на представление близ Байройта, как ходят медитировать и молиться в храм.
Теперь, окунувшись в героизм Риенци, он хотел уйти от окружавших его женщин. Слишком много в этой гостиной было поклонниц, чтобы остаток вечера не был испорчен стычкой между «серыми шиньонами». Он поцеловал ручку Елене Бехштейн, хозяйке дома и своей ярой стороннице, которая два года назад даже заложила свои драгоценности, чтобы снабдить партию деньгами; отпустив дежурный комплимент, он показал, что носит новый стек, который она ему подарила.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу