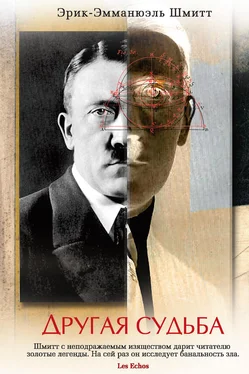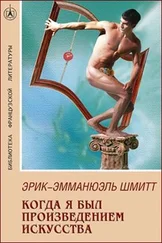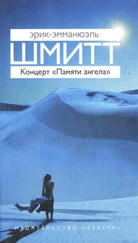– Ох, до чего же вы унылые, большевики! Ты не находишь, Адольф, что коммуняки вроде Нойманна выглядят мрачно, как кюре в красной сутане? Только от них не пахнет потухшей свечкой, а разит ржавым серпом. Прямо скажем, один черт.
– Одиннадцать, ты должна уважать Нойманна, – сказал Адольф ласково.
– А я его уважаю. Уважаю, потому что он красивый, хоть и унылый. Уважаю, потому что он твой друг, хотя должен тебе кучу денег. Уважаю, потому что он и мой друг, хоть мы с ним ни в чем и не согласны. Смирно, товарищ Нойманн, я само уважение, но на свиданку все-таки пойду.
Отсалютовав по-военному, она оставила мужчин на террасе кафе и отправилась во двор, где принимал ясновидящий.
Он сидел в крошечном помещении, зажатом между двумя зданиями и сараем для мусорных баков, рядом с пружинным матрасом, поставленным на четыре кирпича, и сундуком, набитым рукописями, предлагая посетителям два колченогих стула у подержанного столика, под взглядом Христа, нарисованного мелом на стене. Круглая лысая голова медиума блестела, как его хрустальный шар; он принимал клиентов только по понедельникам и называл себя поэтом, хотя никто не относился к нему всерьез.
– Добрый день, мсье Жакоб, – поздоровалась Одиннадцать-Тридцать.
– Зовите меня Максом, – ответил коротышка-ясновидящий.
И они закрылись, чтобы поговорить о будущем.
Разомлев на солнце, повеселев от пастиса, Адольф и Нойманн смотрели на проходивших мимо парижанок.
– Я уезжаю в Москву, – сказал Нойманн.
– Я знаю.
– Меня пригласили поработать в Доме народов. Я пробуду там три месяца.
– А писать будешь?
– Не знаю.
– Нойманн, я тебя понимаю, ты хочешь заниматься политикой, но будет жалко, если из-за этого бросишь живопись.
– Живопись прекрасно обходится без меня.
– Да, но ты, разве ты можешь обойтись без живописи?
Нойманн ответил задумчивым молчанием.
Адольф не успокаивался:
– Ты талантлив. Ты в ответе за свой талант. Ты должен найти ему применение.
Нойманн нарочито зевнул.
– Не вижу интереса в живописи для мира, который мы должны построить. У людей нет работы, людям нечего есть, а ты думаешь о живописи.
– Да. Мне нечего есть, мои работы никому не нужны, а я все равно думаю о живописи. И хочу, чтобы богачи, гнусные капиталисты, как ты говоришь, рвачи, западали на мою живопись. Да.
– Это в прошлом. Теперь я думаю иначе, – сказал Нойманн.
– Война украла наши жизни, разве этого не достаточно? Ты хочешь, чтобы теперь ей на смену пришла политика?
– Нет, Адольф, ты ничего не понял в войне. Ты видел в ней бойню, которая убила талант Бернштейна и тормозила твое развитие. Я же видел в ней политическую гнусность. Этой войной мы обязаны нации, пославшей нас на смерть. А что взамен? Ничего. Что это такое – нация? Что значит быть немцем, французом, бельгийцем или шведом? Ничего. Вот что я понял во время войны: нацию надо заменить государством. И не абы каким государством. Государством, которое гарантирует счастье, благосостояние и равенство всем.
– Хватит потчевать меня твоей коммунистической похлебкой, я все знаю, Нойманн, сто раз слышал.
– Ты меня слышишь, но не слушаешь. Коммунизм – это…
– Коммунизм – это послевоенная болезнь, Нойманн. Вы хотите изменить общество, которое потребовало в жертву тысячи жизней. Но вы от него, от общества, хотите не меньше, а больше. Оно послало вас умирать – теперь вы требуете, чтобы оно дало вам жить, организовало вашу жизнь во всем до последних мелочей. Вот в этом, по-моему, вы ошибаетесь. Лично я не хочу от общества больше , я хочу меньше . После этой войны я ничего больше не хочу давать обществу, пусть оставит меня в покое, я ему ничего не должен.
– Браво! Правый анархизм! Отменный ответ! Так, милый мой, мир не изменить.
– Но я не хочу менять мир, Нойманн, я хочу только состояться.
Подошла Одиннадцать-Тридцать, села рядом и молча поднесла к губам пустой стакан. Адольф заметил, что нос у нее распух, а глаза покраснели.
– Что такое? Ты плачешь?
Она встряхнулась, как будто только что их заметила, и нежно улыбнулась Адольфу.
– Нет. То есть да.
– Этот дурак-ясновидящий что-то тебе сказал?
– Нет. То есть да.
– И ты из-за этого плачешь?
– Да нет же! Ничего подобного! Я расхлюпалась из-за сенной лихорадки. Сейчас самый сезон для насморка.
– Я не знал, что у тебя сенная лихорадка, – с сомнением сказал Адольф.
– Теперь будешь знать, вот!
У Адольфа не было времени расспрашивать Одиннадцать-Тридцать: им пора было отправляться на собрание сюрреалистов в зал Гаво, где собирались провести суд над Анатолем Франсом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу